Гармония – моё второе имя (СИ)
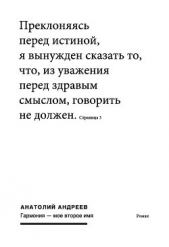
Гармония – моё второе имя (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Выбирай: или ты начинаешь зарабатывать деньги – или остаешься один.
– Для меня это звучит так: или деньги – или жизнь. Деньги – или любовь. Деньги – или счастье. Деньги – или…
– Ты врешь самому себе, ты боишься быть мужчиной, вот и играешь в игры со своим Достоевским. Хватит играть. Весь мир живет очень просто.
– А мир не живет, мир просто погибает. Чтобы выжить, надо думать головой, а не желудком.
– Выбирай: или – или.
– Ты меня любишь, Вера?
– На вопрос, который задан не вовремя, можно получить неправильный ответ.
– Да или нет?
– Нет!
Разумеется, последнее слово осталось за женой, что для нее означало следующее: правота, которая не приносит денег, не может считаться правотой. Это не правота, а пустота. А вот пустота, приносящая деньги, самым волшебным образом перестает быть пустотой, становясь веской правотой… Уже само виртуальное шуршание виртуальных денежных знаков кажется чем-то полновесным.
Значит, права была она. Ее правота измерялась в денежных знаках, а моя в каких-то странных информационных комбинациях: тело – душа – дух.
В тот момент я «вдруг» окончательно понял, что является моим главным врагом. Не злые люди, не добрые люди, не богатые и не бедные, не верующие и не атеисты, не мужчины и не женщины, не Сеня и не Вальзер; нет, не они; моим главным врагом отныне – ты слышишь, Вера? – является глупость человеческая, враг вездесущий и зело коварный. Ибо взглянем правде в глаза: кто возьмется отличить мудрость от глупости?
Вот я взялся: мудро это или глупо?
В принципе, моя жена была соавтором моего открытия (я о глупости); но от этого комплимента в ее адрес я решил воздержаться.
Чтобы досадить ей, я заперся у себя в кабинете и в сотый раз перечитал недавно написанное.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
5
В принципе нет ничего скучнее, чем разбирать невразумительную систему «идей», обслуживающую пунктик, спорить с логикой сумасшедших или, как осторожно выражается повествователь, «мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся» (характеристика Раскольникова). Главное – механизм, запустивший его систему идей; сами же идеи – не более чем интеллектуальный ребус, за которым стоит мнимая мировоззренческая глубина.
Однако художественная цельность романа вновь и вновь, с прямо-таки назойливым постоянством и энергичной настырностью, возвращает нас к заветному пунктику. Послушно внемлем очередной раз.
Раскольников (вновь раскроем карты повествователя) безбожными средствами пытается решить проблемы божественно устроенного мира. При этом мотивы его поведения изначально очень даже и согласуются с законами мира, однако парадоксы ума, смущающие душу «мономана», запутывают всё дело. Сквозь «умственную» призму Раскольников, даже не подозревающий, как глубоко, хотя и искренно, он заблуждается (об этом ведает контролирующий ложные и истинные параметры картины мира автор), и смотрит на все события, попадающие в поле его зрения (а о том, чтобы попало нужное, – опять забота автора). Вот Родион получает письмо от матери, Пульхерии Александровны, в котором речь идёт, в основном, о Дуне, сестре «Роди», и о предстоящем её браке с Петром Петровичем Лужиным. В самом конце письма простая и сердобольная (на сонечкин манер) мамаша напутственно и пророчески замечает: «Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце твоём, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие ? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!»
(Между прочим, семантика имени, отчества и фамилии героя, к которому обращён трогательный призыв матери, многократно расширяет и углубляет контекст конфликта. Раскольников несёт в себе ту новомодную убийственную заразу, которая реально угрожает родине Романовых, России, православной державе. Вновь – вспомним в этой связи «Войну и мир» – Запад сошёлся с Востоком в схватке за умы и сердца людей. Вовсе не личный конфликт «раскалывает» душу героя, а конфликт вечный, универсальный, всемирный, вселенский. Но русский начинает думать только тогда, когда слишком уж верит, поэтому он достаточно быстро и, разумеется, через кровь возвращается к истокам, к лепетанию молитв. А вот Западу есть над чем задуматься…
Он и думает, внимая Достоевскому, как Родя – Пульхерии Александровне.)
Конечно же, «с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, злая улыбка змеилась по его губам ». Отчего? Не оттого ли, что он не верил «в благость творца и искупителя», но не был и до конца уверен в своём неверии?
Не будем лишать читателя удовольствия подумать.
Кстати, Раскольников после чтения письма тоже «думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли». И было отчего: Дуня, благодаря его, Родиной, неустроенности, собиралась выходить замуж по расчёту, то есть жертвуя собой по образцу Сонечки, «продавая» себя ради брата и матери. Список жертв, немо вопиющих об отмщении, продолжал расти. Слёзы невинных парадоксально отливались в приговор Алёне Ивановне. «Сонечкин жребий» («Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!») вновь актуализировал дилемму: или «вечная Сонечка» – или вечный бунт против мира, в котором уготовано амплуа вечной Сонечки. И то, и другое предполагало соучастие самого Родиона в преступлении.
С точки зрения разума из двух зол выбирают не иллюзорное добро, а наименьшее зло. Раскольников был по-своему прав. А как ещё прикажете решить «дикий и фантастический вопрос», вопрос неразрешимый, как бы теоретический, отвлечённый, но вместе с тем подбросивший его родной сестре (не абстрактной категории «униженных и оскорблённых») Сонечкин жребий?
Определённый «процент» оскорблённых, к сожалению, был гнусной реальностью, что тут же подтвердила уличная (обычная) история с растленной девочкой (повествователь не скупится на аргументы «в пользу» теории Раскольникова; список жертв растёт). «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в этот, так в другой?..»
Прав ли был повествователь, из двух зол выбравший иллюзорное добро, ценой отвлечения от реальности?
В это можно только верить. Однако вопросы – вопросами, а жизнь – жизнью. И вопросы как-то решаются, и жизнь продолжается, и без преступлений можно обойтись. Но такая логика, похоже, вовсе не знакома мономански устроенному сознанию автора. Трагедия нравственного максимализма (средневековый или подростковый тип трагедии, в сущности, мнимая трагедия) обретает художественную плоть.
Достоевский, словно специально противореча аксиоме Л. Толстого, усердно «решает» вопросы, отвлекаясь от призвания искусства: быть нерассуждающей службой жизни. Но если столь откровенно пренебрегать природой искусства и взашеи гнать её в двери, то она, природа, будет лезть в окно. Решение вопросов средствами, для этой цели совершенно не приспособленными, приводит к тому, что решение вопросов будет всегда не в пользу способов, которыми вопросы действительно решаются. Проще говоря, решение вопросов «от психики» будет всегда направлено против ума. Вопрос об истинности подменяется способами решения: каковы способы – такова и истина.
Всё это объективно на руку аксиоме: искусство должно позаботиться о том, чтобы заставить «полюблять жизнь».
Достоевский «не заставляет» любить жизнь непосредственно, всем строем образного ряда; но он культивирует то, что безусловно стоит на страже жизни: психические интенции, доразумное начало. Таким образом, Достоевский опосредованно любит жизнь, оберегая тот потайной механизм, который и обеспечивает жизнелюбие.
Однако не всё так просто. В аксиому Толстого по умолчанию заложена сама собой разумеющаяся посылка: здоровая нормальная психика естественным образом озабочена ценностями жизни. Но то, что является естественным для нормы, не может считаться само собой разумеющимся для находящегося за границей нормы. Психика болезненно раздражительная может предложить идеологию амбивалентную, как бы совместимую с идеологией жизнелюбия, но вместе с тем непосредственно о этом ничего не говорящую. Идеология поиска смысла жизни (решения вопросов) оказалась вовсе не безобидна для жизни как таковой. Логикой идеологии, представленной моделирующим сознанием, Достоевский задвинул жизнь на периферию собственно человеческих интересов.


























