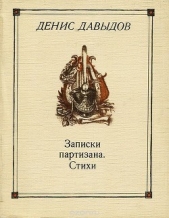Записки мерзавца (сборник)
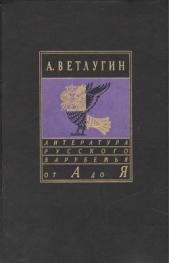
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Свидетели казни рассказывают: "Не хотите ли Вы чего-нибудь передать, -- спросил у адмирала человек, изображавший прокурора, -- письма, записки?"
"Нет, ничего, -- ответил адмирал, -- только еще одну папиросу..."
Достал портсигар, вынул папиросу, выкурил и, бросив портсигар одному из солдат, заметил: "Это тебе на память от твоего Верховного Правителя..." Солдаты неожиданно отказались стрелять, пришлось вызвать матросов. Эти не смутились. Лицо адмирала оставалось строгое, ровное, только чуть-чуть бледнее обыкновенного. При звуках команды оно дрогнуло от какой-то странной улыбки...
Вспоминается другая улыбка, тоже предсмертная: улыбка Лермонтова.
В обоих случаях смерть напоминала самоубийство. Сами убивали причину...
IV
Каждая эпоха богата личинами джеттаторэ. Но бывают моменты кризиса, расстройства, смятения духа, когда изобретательность джеттаторэ достигает гиперболических размеров. Эвакуации побили все мировые рекорды. Суеверие средних веков на фоне Киева, Ростова, Новороссийска, Севастополя и т. д. показалось бы законченным скептицизмом.
Музыка кофеен, приказы коменданта, меры, принимаемые диктатором, состав прибывающих из-за границы, содержание зрелищ, надписи на заборах, поведение домашней прислуги... За два десятка эвакуации ни разу не была нарушена обязательность появления излюбленных личин. Опытные люди к третьему году беженства научились искусству распознавания. Первая личина... -- беги, не дожидаясь остальных, иначе будет поздно!
Музыка кофеен: Киевского "Франсуа", Харьковского "Версаля", Новороссийского "Нордоста", Одесских "Веселых Сумерек", Батумского "Павильона", Ростовского "Паласа", Тифлисского "Хамелеона", Севастопольского "Поплавка". Когда наступает момент, когда надвигающееся уже послало свою тень, с пюпитров удаляются марши, польки, увертюры, "Осенние песни", мазурки. Офицеры перестают требовать гимн, спекулянты не интересуются "гай-да-тройкой", дирижер не отдает никаких распоряжений. По немому согласию всех присутствующих первая скрипка зажмуривает глаза, крепче прижимает гриф, яростно замахивается смычком: "Сильва, ты меня не любишь", "За милых женщин", "Частица черт-ль в нас"... Никогда, нигде, ни в какой стране произведение венгерского композитора не сыграло такой жуткой роли, не пользовалось таким своеобразным успехом. От "Сильвы" до последнего поезда или парохода остается одна, maximum две недели. Предусмотрительные люди, дорожащие багажом, уезжают после третьего повторного вечера сплошной "Сильвы"... Любопытная вещь: уже в Константинополе "Сильву" не исполняют, в Батуме круглый год громыхали ту-степы, фокстроты, шимми, и только после ухода англичан репертуар изменился. В Европе, в странах спокойных, в городах прочного быта "Сильвы" не знают: ни во Франции, ни в Англии, ни даже в Германии, ни даже в родной Венгрии. Царство "Сильвы" лишь в голодной Вене и в сомнительных лимитрофах.
Гимн эвакуации или по крайней мере голодной смерти!..
Приказы коменданта: реквизиция теплых вещей означает, что армия больше не существует и что кто-то хочет иметь предлог для вторжения в богатые квартиры; окопные работы предупреждают эвакуацию не более чем на одну неделю; они производятся в целях увеличения стоимости выезда для людей, уже имеющих билет и паспорт, т. е. лиц, намеревающихся уклониться от уплаты контрибуции в пользу разведки и комендатуры; самые работы в буквальном смысле никогда не производятся; генерал, подписавший приказ об окопных работах, имеет возможность сделать это лишь однажды, к деятельности он больше никогда и нигде не возвращается. Наконец, из прочих "приказов коменданта": запрещение выезда из города. Эта мера -- самый последний вестник -- maximum за два дня; когда большевики уже на плечах, уцелевшие воинские части употребляются для задержки желающей бежать интеллигенции. Личина страшная, сопровождается расстрелом бедных и грабежом богатых.
Меры диктаторов: когда пуговица доходит до четырехсот рублей и продается только гроссами (не менее дюжины гроссов), созывается экономическое совещание из финансистов, проживающих за границей. Большинство успевает доехать только до Константинополя. По времени одна из ранних личин: первые заметки появляются за месяц, официальный приказ за 2--3 недели. Одновременно с экономическим совещанием прекращение движения поездов севернее ставки возбуждает вопрос о крупном валютном займе. Иностранные миссии уезжают именно после обнаружения этой идеи: остается не более десяти дней.
Прибывшие пароходы и спасатели: из военных кораблей не оставляет никаких сомнений появление "Вальдек-Руссо" (стаж -- четыре эвакуации...), из цивильных установление Триестинским Ллойдом правильных рейсов. Из профессиональных спасателей остерегаются приезда русских политических деятелей из Парижа, из иностранцев доказанный джеттаторэ -- редактор "Temps" Шарль Ривэ. Под подозрением секретарь французской миссии Зиновий Пешков.
Новые зрелища и проекты: возобновление "Русского Слова" и "Биржевых Ведомостей", открытие заграничных отделений Освага и добровольческого телеграфного агентства в Париже.
Но, конечно, наиболее общеизвестной и признанной из личин джеттаторэ является "Кривой Джимми", "петербургский" театр с конферансье -- Курихиным... Приезжает maximum за четыре, minimum за два дня, устраивается обыкновенно в зале громадного ресторана, где уже никто не бывает за исключением чинов контрразведки. Стаж "Кривого Джимми" -- шесть эвакуаций, т. е. на втором месте после мирового рекорда -- "окопных работ".
Если "Кривой Джимми" приедет в Париж, французы уйдут и из этого города...
В выборе вестников эвакуации джеттаторэ не минует и основной волны человеческих настроений. Оставляя в стороне характерные не только для эвакуации кокаин, карты, беспробудное пьянство, историк революционного быта отметит исключительное по интенсивности разрушение условной морали. В период решающих поражений к насекомым, приносящим тиф, прибавлялись насекомые, заражающие влеченьем к распутству. Начинались афинские ночи при участии седовласых профессоров, многосемейных политиков, невинных девушек. Готовясь к неизвестному, жуткому, неизбежному, люди всех возрастов и положений порывали с тем, что составляло будто бы железный стержень прежней баснословной жизни. Проходило два-три месяца, и, попадая в счастливые удержавшиеся страны, участники афинских ночей в сношениях с иностранцами, с людьми другой, "не нашей" эвакуации, полностью восстановляли старую мораль. Но между людьми, увидевшими лицо медузы в одну и ту же эвакуацию, создавалась или пропасть от стыда, или близость в грехе. Эвакуации ссорили братьев и роднили врагов. Люди, прошедшие короткий миг эвакуационного кошмара, сами превращались в личины. Приезжая на Запад, они привозили злосчастье, отравляли атмосферу, пугались друг друга. Завязывались какие-то новые узлы.
* * *
Я не перебрал и малейшей доли тех, кто в больничных саванах, в золотых погонах, в отточенных идеях, в диком смятеньи, оживают, чуть коснешься этого хаоса, -- оживает и сосед, оживляет соседа. Я мог бы написать отдельную книгу о русских личинах джеттаторэ. Тема совсем не плохая. Но я боюсь, что, если долго говорить об этом, в комнату без звонка и без доклада войдет лысый человек в коричневом френче, в лакированных сапогах, усядется на кресло, уставится своими влажными черными глазами и начнет ласково молчать. Ведь в Париже уже много лет не было землетрясения.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЫПНЯК
I
Ну, кажется, капут. Солгала, видно, счастливая подкова, найденная мной в то первое баснословное лето, в городе Несвяже у здания солдатского комитета Первой армии. У меня тридцать девять и пять. И хотя мобилизованный зауряд скорчил небритую сизую физиономию и сказал, что "еще ничего нельзя решить определенно", я уже все решил. Съели и меня марсиане. Чертовски неприятно, даже как-то неудобно. Еще позавчера генерал Шкуро категорически обещал к Пасхе быть в Москве и отслужить заутреню в Успенском... Мне, видно, не попасть. Ах, марсиане, марсиане. Маленькие, беленькие, ногтем размозжишь, но прыгают, но изворотливые, но непобедимые. Да, кстати, какие бывают вши? Платяные, головные, ну а еще? Какая-то ерунда в голову прет, это от головных, надо полагать. В 1912 году, в Путейском институте на конкурсном экзамене для сочинения дали тему: "Все блохи не плохи, все маленькие, все черненькие, все прыгают". Вот и допрыгались. Спрашивается: сыпной или возвратный, хотелось бы возвратный, уж болеть, так подольше. В смысле отсрочки у воинского разница что-то около шести недель, а голова трещит одинаково и бред не меньше. На прошлой неделе умер один из членов земсоюза, свою последнюю ночь он завывал из "Сильвы" -- примелькалась, видно, уж такая "Маделон Эвакуации"... В соседней комнате плачет жена, ребятишки жмутся в страхе, приятели во френчах маршируют, а он от сиделки вырывается и орет: "Сильва, ты меня не любишь!.."