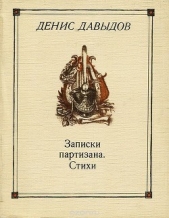Записки мерзавца (сборник)
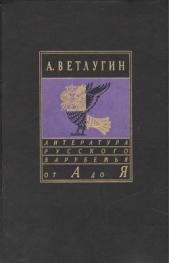
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полное примирение большевиков со спекулянтами, под знаком которого начинается 1922, страшнее, чем англо-русский договор, грозит большими последствиями, чем крушение Крыма.
Конечно, для чистоты коммунистической доктрины спекуляция -- моментальная смерть. Но для продолжения опыта, для сохранения власти спекуляция -- лучшая подпора. Заключается вернейшее соглашение, творится конституция, выражающая истинное соотношение сил: вам -- политика и право международного шантажа, нам -- экономика и свободная игра сил. То, что англичане называют "fair play", то, что столько лет подряд проповедовали московские славянофилы. Формула новейшей конституции -- почти аксаковская. Только там, где Аксаков говорил "религия", стоит "спекуляция", "экономика", "торговля" (в зависимости от этикета). Пафос же славянофильской мысли сохранен полностью: народу обеспечивается свободное проявление его сущности. "Особенная стать" выпускается из пожизненного заключения. Творимая ею третья Россия -- по существу дела является первой: никогда -- со дня пришествия варягов до конницы Буденного -- Россия не строилась по воле народной. Или военные поселения Аракчеева, или учредительное собрание Виктора Чернова, или цинизм азиата Победоносцева, или мечты европейца Кокошкина. Или право, непонятное и чуждое, или принуждение, оскорбительное и тягостное.
Третья Россия -- первая русская Россия...
Третья Москва -- первая русская Москва...
1918 год -- первый русский год...
Заря спекуляции -- первая русская заря...
И последняя московская метель поет неслыханную первую песнь!..
ДЖЕТТАТОРЭ
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила...
А. Пушкин
I
Вы чините карандаш. В этот момент он входит в комнату. Вы подымаете голову, смотрите ему в глаза и отхватываете мякоть своего большого пальца...
Метрдотель разбегается к вашему столу, по дороге спотыкается обо что-то, падает и ломает ногу. Он заказал шатобриан-о-пом. Проходит десять минут, внизу под залом раздается оглушительный взрыв. В чем дело? В тот момент, когда повар снимал шатобриан с плиты, газ взорвался и тяжко ранил повара и обоих его помощников.
Вы идете с ним по улице. Навстречу вам мчится какой-то человек без шапки, вслед бегут полисмены и кричат: "Стой!" Человек не останавливается, полисмены стреляют, и вы чувствуете острую боль в плече.
Если он сдал вам квартиру, в первую же ночь пожар истребляет все вещи и вы спасаетесь в одном белье. Он повез покатать на автомобиле ваших детей, автомобиль попадает под автобус, он дал вам контрамарки на концерт, при возвращении из театра вас ограбили. Почтальон, несущий его письма, умирает от разрыва сердца. Пароход, на борту которого имеется он, -- выходит в штиль, а к вечеру страшнейшая буря и кораблекрушение.
Не останавливайтесь с ним на тротуаре -- черепица раскроит вашу голову; не зовите его в гости -- в доме будет смерть; не посвящайте его ни в одну из ваших операций -- самое верное дело сорвется и даст убыток, потому что цветущий сад, где он поспал в гамаке, за одну ночь уничтожается градом, и город, где он венчался, посещает чума.
Он -- "джеттаторэ"; он -- тот человек, которого в Италии не пускают ни в рестораны, ни в гостиницы, ни в театры. Не надо твоих денег, не надо твоих подарков. Только уходи подальше... Если итальянец сидит за карточным столом и к нему приближается незнакомый человек, он немедленно подымает под столом два пальца -- сакраментальный жест против джеттаторэ...
Русский писатель, не веривший ни в сон, ни в чох -- решился однажды снять дом, принадлежавший джеттаторэ. Задрожала вся Италия, к писателю ходили депутаты от его друзей и умоляли покинуть гибельный дом. Он смеялся: у него было во всем и всегда счастье Поликрата. Прошло немного лет -- и на голову писателя упали такие беды, которых не знал сам Иов. Голод, нищета, смерть ворвались в его жизнь...
Когда итальянцы узнали о его горе, они закатили глаза до белков, подняли два пальца и трагическим шепотом сказали одно слово.
Джеттаторэ!..
II
У джеттаторэ тысячи тысяч личин: он их меняет с быстротой трансформатора, он жонглирует контрастами, сбивает с толку неожиданностями. То в броне военного корабля, то в сутане деревенского кюре, то в цилиндре растакуэра, то в очках ученого, то в форме заражающей отвлеченной идеи -- он водит вас от воспоминания к забвению. Вы трете лоб, вы напрягаете все силы: что-то знакомое, какой-то отличительный штрих, это уже было, но где? когда?
Лишь сломав вам вконец голову, джеттаторэ возвращается в одном из уже бывших образов, и больше сомнений нет. Вы отчетливо вспоминаете, на какой именно остановке жизни вы повстречались с ним. Вы остро чувствуете: несчастье послало свою тень, надо бежать...
За последние годы столько личин джеттаторэ смеялось прямо в лицо, что теперь, когда я хочу их всех припомнить, расположить в каком-либо порядке, я чувствую свое полное бессилие. Классификация невозможна. Одни личины встречались только мне, другие усмехались моим друзьям, одни любили интимную обстановку, ночные встречи у гаснущего фонаря, столкновения в темных вестибюлях провинциальных вокзалов, другие предпочитали блеск официальной помпы, звон колоколов, площадь, усеянную радостной толпой, или пристань, выдерживающую натиск панической эвакуации...
...На второй или третий вечер своего возвращения из Вены в германский Киев, всласть наевшись, напившись, выспавшись, я отправился в "жокей-клуб", куда с первого же часа меня влекла жажда встрепенувшегося игрока...
Зеленое сукно -- цвет малахитов тины,
Все в пепле, туз червей на сломанном мелке,
Подумай, жертву накануне гильотины
Туманят картами и в каменном мешке!
Усатые немецкие майоры при первой же вести о берлинском перевороте, расстегнули свои ужасные воротники и бросились на водку и карты. В громадной накуренной комнате наряду с зародышами будущей русской эмиграции имелось не менее двадцати-тридцати майоров. Крупье -- наглые, сверкающие, быстрые, в свою очередь использовали переворот и перестали стесняться с завоевателями.
"В банке тридцать пять тысяч", -- заорал крупье, бесконечно похожий на портрет Дориана Грея после убийства Бэзиля Холлуорда.
"Banko!" -- прохрипел багровый майор с прилипшими редкими волосами, со множеством платиновых пломб. Портрет Дориана Грея, не поворачиваясь в его сторону, резко сказал: "Eclairage s. v. p!" Это означало, что майору предлагается до получения карты показать, имеется ли у него тридцать пять тысяч. Еще неделю назад вместо "эклэража" крупье получил бы подсвечником по голове, но теперь после армистиса дух обычного права изменился... Все двенадцать "табло" уставились в упор на майора, мазильщики придвинулись ближе к столу. Майор судорожно выхватил бумажник, помедлил секунду, не раскрывая переложил его в другой карман и неуклюже развалисто отошел от стола...
Двенадцать табло равнодушно опустили головы, мазильщики захихикали, портрет Дориана Грея снова заорал: "Il y a toujours trente cing milles a banko. Qui va banko?" {"Всего в банке тридцать пять тысяч. Кто идет ва банк?" (фр.).} Лопатка с двумя картами обошла двенадцать табло, но никто не сделал сакраментального жеста; тогда лопатка стала балансировать в воздухе, гипнотизируя людей, столпившихся у стола, обольщая надеждой, парализуя волю, сокрушая логику.
Что-то сухое, внезапное, нетерпимое царапнуло мне горло, захватило дыхание. Чрез кучу чернеющих голов я бросил на стол пачку запечатанных карбованцев и, не узнавая собственного голоса, крикнул "Banko". Лопатка протянулась ко мне, дрожащей рукой я схватил обе карты, но, прежде чем их открыть, почему-то взглянул в сторону банкомета. Через стул от крупье, слегка отодвинувшись от стола, закинув нога на ногу и блистая лакированным сапогом со шпорой, сидел совершенно лысый, плохо выбритый человек в коричневом френче из какой-то необычайно толстой верблюжьей материи. Мой взгляд встретил два влажных черных глаза, лениво улыбающихся по краям острого тонкого носа с небольшой бородавкой на левом крыле. В этом ответном взгляде меня неприятно прорезало спокойное добродушие; я порывисто раскрыл карты -- и не смог удержаться от радостного вздоха -- "восемь..."