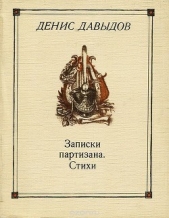Записки мерзавца (сборник)
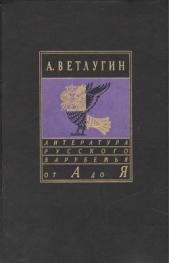
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
2
Любопытнейший случай понаблюдать доставил мне этой весной французик-офицер, который с миссией военной приезжал в Москву и все удивлялся, зачем приехал. Была Москва -- белокаменная и стала Москва расплавленная, была l'armée russe {русская армия(фр.).} и стала l'armée rouge {красная армия (фр.).}. Ну, да это ни к чему. Плевали мы и на большие чудеса.
В составе ихней миссии было человек пятнадцать офицеров. По большей части колониальный сброд, врали и лауреаты полковых судов. Один с Латамом на буйволов охотился и в результате, если б не la grande guerre {великая война (фр.).}, предпринял бы поездку в еще более далекие места. Другой во французском Конго прививал добрую европейскую мораль неграм и допрививался до "превышения власти", выразившегося в двойном убийстве. Словом, было чем-похвастать и о чем рассказать моему знакомому французику. В продолжение двух недель сидели мы на Столешниковом, в кафе, и пожирали пирожные на патоке. Я жрал и слушал, он жрал и рассказывал.
Однажды сижу я за обычным столиком и жду. Появляется мой французик, но не один, под руку держит другого -- совсем молоденького, прыщавого, рыженького. Форма французская, лицо не то еврейское, не то польское. Знакомят. Сначала китайщина: "Monsieur Bystrizki, j'ai l'honneur de vous présenter" {Господин Быстрицкий, имею честь представиться (фр.).}, и т. п., потом называет фамилию.
Я так спокойно спрашиваю:
-- Вы по-русски говорите?
Новый знакомый вспыхивает:
-- Да, немного. А вы почему догадались?
-- Очень просто, фамилия ваша не французская, да и лицо тоже...
Тут он вспыхивает еще пуще и не дает мне фразы окончить:
-- Я действительно в детстве живал в России и даже отчасти русское образование получил, но вот уже четырнадцать лет я живу во Франции, восемь лет, как натурализовался, трижды ранен и по-русски теперь многого не понимаю.
Я слегка (конечно, про себя) удивился -- чего так человек на дыбы становится и от русского языка отгораживается.
Хорошо. Сидим мы час, сидим другой. В чайных стаканах пьем водку, в кофейных чашках коньяк, словом, все в стиле весны 1918. Мой прежний французик уже начинает песни петь и обучает скрипача мотиву "Lison, Lisette". Мой новый "французик" говорит только по-французски (хотя я задаю ему вопросы по-русски), но пьет серьезно. Потом, когда мы хотели еще по коньяку выпить, новый французик смотрит на часы и самым спокойным тоном заявляет:
-- Очевидно, здесь нюхать неловко. Мне придется домой ехать. Вы не любитель? Роберта не зову, он враг кокаина.
Я решил поддержкать марку Гольденблатовского компаньона и Дьяконовского выученика:
-- Я бы с удовольствием, но, простите невежливый вопрос, у вас настоящий?
Он даже улыбнулся.
-- На этот счет не сомневайтесь. Самый что ни на есть Мерк. С опасностью для жизни чрез оккупированную Бельгию голландские спекулянты провозят. Дело стоящее.
Ехать так ехать. Роберт уговаривает остаться, увлекает вон той угловой шатенкой, которая ему кой-какие авансы выдала и еще большее сулит, уверяет, что у нее и подруги прехорошенькие: одеты по-французски, говорят по-французски, любят по-французски.
-- Нет, не обольстишь... В мире две силы, побеждающие любовь: карты и кокаин. За десять пасов подряд, за грамм чистейшего кокаина отдашь все, пожертвуешь привязанностью, репутацией, родными, наукой, искусством. К чему сложность, к чему тянуться во времени, зябнуть осенним утром, тосковать звериной скорбью в часы весенних закатов? От закатов, как от прекрасных женщин: жестокость и грусть, грустная жестокость, жестокая грусть... Отломал щепочку от спичечной коробки, посыпал белого порошку, заткнул одну ноздрю, втянул в другую и -- плевать на все! Ничего не хочется, никого не жаль. Пусть родного отца приведут и расстреляют на твоих глазах -- будешь смотреть с любопытством, но и с равнодушием...
Так (или приблизительно так) говорил мой новый приятель. Я даже удивился, слушая его и смотря на него. Шея его тоненькая, цыплячья, никнет под тяжестью высоколобой, рыжей головы и, как стебелек слабый в грозу, перегибается чрез высоченный воротник голубого мундира. В лице, в глазах, в жестах, в походке, в голосе -- роковая собачья старость и невероятная, заражающая скорбь.
Удивился тому, как он переродился, говоря о кокаине. Скорбь осталась, но вмиг она засверкала, затвердела, показалась завидной участью.
...Мы ехали по пыльным пустынным бульварам. Был конец московского душного июня. Оборванный старичишка с огромнейшей палкой ковылял по бульвару. Зажелтели мертвенные фонари, и тучи всевозможной мошкары с дракой и жужжанием бросились к свету. У Никитинских ворот чернели развалины Гагаринского дома, а направо по Малой Никитской в шестом этаже казарменного строения последним закатным лучом горели огромные окна.
-- Не выношу такого обилия красок, -- придушенным голосом сказал мой спутник, -- Вы знаете, я потому и с Салоникского фронта отпросился, чтоб послали в Россию. Думал, тут революция, боги жаждут, у жизни, значит, одна равнодействующая. Стояли мы лагерем у самого моря. Делать ни черта. Утром ученье, вечером едем в город. Удовольствия известные. Из каждого окна выглядывает намазанная гречанка и манит пальцем. Доблестные наши союзники, англичане, каждый вечер новый кабак громят и по счетам принципиально не платят. Первое время все это забавляло. Ну, и кокаин еще тогда сильней действовал. Теперь хуже. Больно перенюхал. Да, так, собственно, о чем я хотел сказать? Что-то по поводу красок? Да, видите ли, когда город опротивел, стал я по вечерам уезжать верхом к дальней скале. Одиночество, тишина. Садишься на траву и нюхаешь. Только, смотрю, чертовщина, что-то мешает. Долго не понимал. Знаете что? Слишком обильные краски... Карминовый закат, море чуть ли не цвета анилиновых чернил, небо меняется беспрестанно, в траве светлячки, светящиеся жуки и прочая дрянь. Такая взяла тоска, что хоть на край света. Мог в Париж курьером. Но в Париже надрыв, в Париже хорошо лишь в глубоко мирное время. Тут пригодилось знание русского языка. Вы правильно угадали. Я сам из России. Живал на юге, в Москве никогда не был. Слухами да открытками пробавлялся... Господи, да вы посмотрите, что ж это делается, да так и существовать нельзя!
Последние слова он произнес с чувством неподдельного ужаса. Я встрепенулся, согнал мрачную сонливость и оглянулся вокруг. Перед мной серел армяк извозчика, подъезжавшего к Пречистенским воротам. В чем же дело?
-- Туда, туда, за реку смотрите, --шепнул он нетерпеливо.
Я взглянул. За Москва-рекой, раскинувшейся как чулок на ковре, вставали четыре огромные трубы, меж ними еще мелькали частицы отраженного света и отдельные кирпичи казались подожженными. И больше ничего. Я посмотрел на него с недоумением. Он забился в угол пролетки, закутался в свой непромокаемый плащ и, казалось, был оскорблен моей нечуткостью. Остаток пути прошел в молчании. У меня тоже закипало раздражение. Пшибышевщина, наигранность, франкоеврейский Фальк, загубленный вечер. Вероятно, и кокаина у него нет. Просто проголодался в одиночестве, не с кем откровенничать, захотелось, видно, рассказать о том, какой он гениальный и как его никто не любит...
Дотащились...
Жил он на Остоженке, в Мансуровском переулке. Занимал по реквизиции три дорого, но скверно обставленных комнаты. Бывший хозяин квартиры, известный адвокат, любил штампованный комфорт, пораскидал паршивые ковры, звериные шкуры, низенькие пуфы. На стенах торчали передвижники, бездарные, дурацкие. Зимняя дорога, среднерусские пейзажи и пр. и пр. Ох, эти московские адвокаты! Возить бы вам не перевозить.
-- Пройдемте вот в эту комнату. Здесь диваны. И знаете что, хотите, я буду с вами по-русски говорить? Ведь я вам в кафе соврал. Я по-русски и до сих пор свободнее говорю.
Он хотел улыбнуться, но уж больно не шла улыбка к его виснущей несчастной голове. Получилась омерзительная жалкая гримаса.