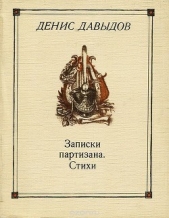Записки мерзавца (сборник)
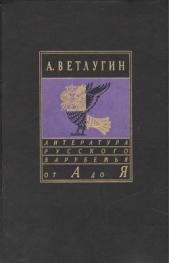
Записки мерзавца (сборник) читать книгу онлайн
Серия "Литература русского зарубежья от А до Я" знакомит читателя с творчеством одного из наиболее ярких писателей эмиграции - А.Ветлугина, чьи произведения, публиковавшиеся в начале 1920-х гг. в Париже и Берлине, с тех пор ни разу не переиздавались. В книгах А.Ветлугина глазами "очевидца" показаны события эпохи революции и гражданской войны, участником которых довелось стать автору. Он создает портреты знаменитых писателей и политиков, царских генералов, перешедших на службу к советской власти, и видных большевиков анархистов и махновцев, вождей белого движения и простых эмигрантов. В настоящий том включены самые известные книги писателя - сборники "Авантюристы гражданской войны" (Париж, 1921) и "Третья Россия" (Париж, 1922), а также роман "Записки мерзавца" (Берлин, 1922). Все они печатаются в России впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пестро подмигивал Мамонтовский "Метрополь": "Тот, кто строит свой дом, научается жить..."
Одна пожилая артистка приняла стрихнин, будучи не в силах совладать с желтизною кожи на груди. Поэтессы -- волосатые, чубатые, стриженые -- толпами наполняли аптеки в поисках цианистого калия. Поэты -- в смокингах, в желтых кофтах, в мужицких армяках -- нюхали кокаин и бросались в реку...
На Новинском бульваре, в доме, загубленном фронтонами, седобородый хозяин устроил маскарад в честь обнажения, во славу голого женского тела. С полуночи до полудня запахом терпкого обморочного, падального пота наполнялись залы и гостиные; крюшон ввиду обилия гостей приготовляли в мраморной ванне; извергать содержимое желудка в виду обилия гостей водили не в уборную, а на черную лестницу. В конец обезумел безбровый юноша, хозяйский сын, и провожая гостя на черную лестницу, твердил в сомнамбулическом забытьи:
-- Совершенный moyen âge {средневековье (фр.).}, совершеннейший возврат рыцарских времен, в зале розы Франции, на черной лестнице нечистоты Франции.
Петр Феодорович разгуливал в крепдешиновом хитоне, обнажавшем его костистые, кустами поросшие ноги. Петр Феодорович щурился на Гауризангары, вылезавшие из-под корсажа розового домино, а в разговоре с хозяйским сыном, желая блеснуть эрудицией по части moyen âge, приводил справку, с какого года мягкий коленкор уступил место бумаге "Пепифакс".
В хозяйском кабинете юный, но знаменитый автор "Оживленного Саркофага" угрожал выброситься в окно, и хозяин, высвобождаясь из-под обезьяньей маски, теребил седую клочками бородку и умолял взять без всякого обозначения срока, ну хотя бы триста пятьдесят рублей.
В передней, в кабинете, в вестибюле дребезжали телефоны. Лакеи впадали в транс и, уже не дожидаясь того, что им принесет телефонный провод, хрипели в заплеванную трубку:
-- Да, да, еще не поздно, приезжайте.
Золотою известкой обрызгивал вылупившийся месяц белым каркасом затянутые мостовые. Но месяца не видели, предостережений месяца не чуяли. В часы месяца бегали к мраморной ванне, метались по скользким ступеням черной лестницы, писали прощальные письма с настоятельной просьбой никого не винить и все понять.
За безразличные тысячи верст лязгали вагоны: синие, зеленые, желтые; в зеркальные стекла сибирского экспресса глядели выжидающие своего праздника деревни. Точили топоры, копили злобу, в пьяном смрадном сне сжимали кулаки, пережевывая махорочную слюну:
-- Погоди ужо, будя, будя...
В зеркальные стекла сибирского экспресса лицезрел я последнюю Россию. Для того, чтоб чрез неделю, из фронтонами загубленного особняка на Новинском выйти с отвращением к собственной оболочке, влезть на рябого чмокающего извозчика и поползти сквозь суетливую чванливую, пряником расписанную Москву -- на Ильинку, где скопческие рожи и инородческие акценты предлагали заинтересоваться новым выпуском "Грозненская нефть -- привилегированные"...
Стиснутые поясом площадей, обезображенные безжалостным солнцем, потели кремлевские стены. Как вековечный бродяга на казарменных нарах: своего, особого, масляничного праздника выжидал и вековечный бродяга. Скоро, скоро в амбразуры кремлевских стен пролезут физиономии Льюисовских детей.
А было:
-- Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все обет примите мой духовный...
Едучи на Ильинку, я мог бы услышать перебои в ослабнувшем пульсе сердца России.
Но крюшон из мраморной ванны, но неврастения, но "Грозненская нефть -- привилегированные"...
Мне оставались девочки, девчонки...
2
Говаривал Петр Феодорович:
-- Отец, меньше обобщай, больше суммируй и больше читай Гуссерля. Не беда -- ездить к Гольденблату. Сие для денег, то есть для будущей независимости! Как Тарас Андрея, предостерегаю тебя -- сынку, погибнешь от женщин.
Ах, Петр Феодорович, роковой мой Магомет из Толмачей!.. До суммированья ли мне, до чтения ли Гуссерля?!
Как пьяный гуляка, попал я на ярмарочную площадь с каруселью. Уселся на вертящуюся свинью, заиграла шарманка, закричали ребятишки: "Но...но", зачмокали язычками... Мне отвратно... Тошнит, тоска, но что поделаешь, как остановить карусель, жалко ведь обидеть ребятишек!..
Сын лекаря Санкт-Петербургской военно-хирургической академии, недоучившийся студент Московского университета, голубоглазый юноша в бобровой, на шулерские деньги купленной шубе с клешом, робеющий герой с Ильинки... Я брожу по Страстному бульвару -- и морщинистые девки в коленкоровом белье, в грубых чулках фильдекосовых, хватают меня за рукава, гнусавят осточертевшую остроту:
-- Блондин... угости шоколадом с усиками, поедем!..
Угощаю, еду... Так проще жить. В доме баронессы Нордманн, в конце Страстного бульвара, окна номеров выходят во двор. Стена в стену. Где ж тут солнцу заглянуть?.. Значит, можно солнца не стыдиться...
Петр Феодорович! Первый мой мудрый учитель, каждый Нордманновский номер, каждый Нордманновский диван, каждый Нордманновский промокший клоповый матрац расскажут такие были, что если бы вы с вашим методологическим строгим даром занялись бы их систематизацией, собирали бы голоса Нордманновского инвентаря -- получился бы Российский Гомер...
Я считал, я запоминал, но, как в иссякающей каменоломне, мелкими булыжниками осыпаются мои слова, и я жажду, жажду молчанья... Вчера в Нордманновский коридор дюжие швейцары вывели молочного студентика и собирались уже дубасить его за невзнос причитающейся платы. Я уплатил за него синенькую. Но потом, вернувшись в номер и вдохнув запах умывальника, матраца, тела моей дамы -- рассвирепел, и дама со Страстного бульвара не получила обещанных "на счастье"...
-- Сволочь ты, кот, супник!
И еще многое, и плевалась, и всхлипывая натягивала дырявые фильдекосовые чулки.
Петр Феодорович! Воспреемник Гуссерля и компаньон Гольденблата, поняла ли она, что мщу я себе самому, за спасение молочного студента, за последнюю отрыжку дряни сердечной?
До потухания звезд, до утренней Авроры я шлялся по Нордманновскому номеру, Асмоловскими окуривал умывальник, хотел писать стихи, хотел заказать портеру, но сел на подоконник, прильнул лбом к оттаивающему стеклу и ждал, пока воскреснет из мрака противоположная стена. Половой прибегал не раз и с тревогой справлялся, не нужно ли привести новую девочку. Трудно противоречить половому, и я пошел на компромисс. Сняв сапоги, шлепая по коридору, пробрался к маленькому номеришке и наблюдал сквозь крошечную продольную щелочку, как молодой армянин с толстым кадыком, сопя, взлезал на взвизгивающую кровать... Половому -- трояк, мне -- времяпровождение. Ибо бесконечна зимняя ночь, и лишь в восьмом часу, свесившись над сходящими крышами, малокровное утро возвратило мне противоположную стену.
Петр Феодорович! Простите вашего питомца... Но вы не поймете, на Отцах Церкви вы не поспеете за вертящейся свиньей раскрашенной ярмарочной карусели... Я подымаю за своего первого учителя заздравный, ночной кубок горечи, но отныне я клянусь не следовать более его советам...
Эвино! презренье, бесстрастие, новая нежность!.. За вином любовников следует вино не убивших и оттого томящихся убийц.
3
Зимой одиннадцатого года, в разгар славянских трапез и общемосковского бум-бума, съездил я в Париж. Дел никаких не было. Преспокойно мог оставаться на Молчановке и обжираться "Эрмитажными" завтраками. Но уж так подошло. От Ильинки и Страстного к горлу спазмы подкатили, запершило, закрутилось... Все ездят, поеду и я в Париж, посмотрю на французских женщин. Университет на Моховой заброшен, полюбуюсь на другой университет -- Монмартрский.
Женщин французских увидеть не пришлось. Засасывал все тот же маховик: с утра мимо столиков в Café de la Paix циркуляция жонглировала ножками, палантинами, автомобильными шинами, и, когда в полдень угловой ажан в обычном жесте подымал магическую палочку, площадь Оперы со щебетом, прибаутками, щипками заливали ажурные чулочки со стрелками, без стрелок, черные и mauve {сиреневые (фр.).}.