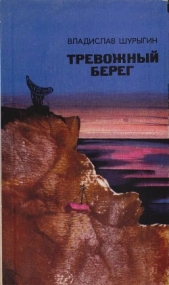Снег на Рождество

Снег на Рождество читать книгу онлайн
В своих повестях и рассказах Александр Брежнев исследует внутренний мир русского человека. Глубокая душевность авторской позиции, наряду со своеобразным стилем, позволяет по-новому взглянуть на устоявшиеся обыденные вещи. Его проза полна национальной гордости и любви к простому народу. Незаурядные, полные оптимизма герои повестей «Снег на Рождество», «Вызов», «Встречи на «Скорой», в какой бы они нелегкой и трагичной ситуации ни находились, призывают всегда сохранять идеалы любви и добра, дружбы и милосердия. Все они борются за нравственный свет, озаряющий путь к самоочищению, к преодолению пороков и соблазнов, злобы и жестокости, лести и корыстолюбия. В душевных переживаниях и совестливости за все живое автор видит путь к спасению человека как личности. Александр Брежнев — лауреат Всесоюзной премии им. А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пережитое не выходило из головы. Непонятная боль-тоска сжимала, холодила сердце. А когда он узнал, что утром арестовали Лепшинова, то совсем растерялся. Но выручили пэтэушники. Они вдруг пришли все в гараж веселые, бодрые, полные оптимизма и радости. Это их неслучайное появление тронуло его.
Втянувшись в работу, он потихоньку забылся.
Крепко пахнет, дурманит сгорающий ацетилен. И ершится, шумит горелка, сверкая жалом своим, точно кошачий глаз.
— Максим, ты не устал?.. — удивляясь сегодняшней необыкновенной его работоспособности, спрашивали шоферы.
— Нет-нет… — отвечал он.
— И чего это тебе все неймется? Ведь ты уже варишь то, что тебе на завтра и на послезавтра надо варить…
— А что поделаешь, если надо варить… — смеется Максим. И, погрозив пэтэушнику, наступившему на шланги, продолжает свое дело.
Только Максим пришел домой, и опять все началось. Плакала Анюта. Ей жалко было и Лепшинова, и начальника паспортного стола. Она считала, что сами они ни в чем не виноваты.
Максим сидел за столом в майке и молчал. Морщил лоб. Вздыхал. Совесть грызла его. Ему хотелось раскаяться. Он открыл Аристотеля. И знакомые мысли о душе теперь показались ему странными.
И, путаясь в ситуации, он все же всеми силами души пытался найти нужный для него выход.
В раскрытое окно со стороны Берестянки подул теплый, полный аромата перекипающих трав ветерок.
Вдруг какая-то необыкновенная тревога охватила Максима. Он встал, наспех оделся.
— Ты куда? — спросила его Анюта.
— В Берестянку, к матери, — и крепко сжал ее руку.
ВСТРЕЧИ НА «СКОРОЙ»
Если врач перестанет любить — остановится жизнь… (…Мне мама говорила…)

Я люблю свою работу. Почему, не знаю… Ведь в ней нет ничего особенного. Одни вызова́, вызова́, вызова́, как у нас говорят на «Скорой».
Сегодня, придя после дежурства домой, я хотел отоспаться. Но только задремал, как кто-то затарабанил в дверь. Вначале тихо, а потом все сильнее и сильнее. Рассердившись не на шутку, я кричу:
— И до каких пор вы будете так шуметь? — Затем, успокоившись, добавляю: — Моя дверь не заперта… Если вы хотите в этом убедиться, дерните ее на себя!!
И сразу кто-то дергает дверь на себя. Всмотревшись, узнаю нашего шофера со «Скорой», молоденького, вихрастого паренька с необыкновенно огромными глазами, то и дело моргающими. Их взгляд грустен. Сняв желтенькую кепку, он вздыхает.
— Меня за вами послали. От пересменки осталась куча необслуженных вызовов. Ну и главврачиха сказала, что если я вас не привезу, то она умрет…
И, переступая с ноги на ногу, он жалостливо смотрит на меня. Его запыленный «уазик» вот уже четвертые сутки пыхтит без передыха. Второй месяц идет эпидемия гриппа.
— Да ты присядь, — говорю я ему.
— Сидеть некогда, — замявшись, отвечает он. — Сами ведь знаете… машин не хватает… А врачи ждут.
Сухощавые, бледные руки его в мозолях. На ладошках кожа кое-где потрескалась, и в эти трещины въелось масло.
— Ну ладно… — вздыхаю я. — Поезжай… А ей скажи, что я сейчас прибуду.
Он уходит. А я торопливо собираюсь. Да, такая вот жизнь на «Скорой». Ведь только отдежурил — и на тебе, опять вызывают. Я выхожу на улицу и смешиваюсь с людской толпой. Ровно, безобидно струится ее говорок. Кто-то здоровается со мною. Кто-то машет мне рукою. Кто-то, остановив меня, начинает по-дружески трясти и похлопывать по плечу. С улыбкой смотрю на парня в полосатом пиджаке и на даму в белом сарафане. Откуда они? И кто они? Я не знаю. Наконец выясняется, что они вызывали меня и что я помог их ребенку. Они счастливы. Счастлив и я. Мне приходится извиниться перед ними за то, что я позабыл их, стараясь объяснить, что в последние месяцы страшно кручусь, в сутки бывает тридцать, а то и более вызовов. Наконец, попрощавшись со мною, они торопливо уходят.
Чуть левее от меня загремел трамвай. И, впрыгнув в него, я поехал.
Водитель трамвая подмигнул мне. Какой-то старик инвалид легонько толкнул меня костылем:
— Доктор, не узнаешь?
— Узнаю, — улыбаюсь я ему, хотя, конечно, ничего о нем не помню.
— Ну вот и отлично, — смеется он и, напыжившись, добавляет: — Смотрите, смотрите, как я теперь дышу…
И действительно, он вдруг так выдыхает из груди воздух, что у соседской старушки слетает с головы шляпка. Та багровеет. Я быстренько поднимаю ее шляпку и, отряхнув, вежливо подаю.
Трамвай на повороте звенит. Мне пора сходить. Инвалид что-то говорит мне. Я молча киваю ему в ответ. За окнами, с трудом сдерживая скорость, мигают две «скорые». Небось опять что-то случилось.
Я выпрыгиваю из трамвая. Разогретый асфальт под ногами дышит.
В вестибюле «Скорой», блестя очками, что-то торопливо пишет пожилой доктор. А рядом с ним две сестрички объясняют больному, как пить лекарства.
Из почти постоянно шумящего репродуктора раздаются команды-приказы готовым к выезду бригадам. Вызова́, вызова́, вызова́… Нет им конца и края. В непродолжительные паузы между ними я иногда напрягаю память, и тогда вспоминаются случаи-осколочки, наиболее дорогие и близкие мне… Почему они запомнились, трудно сказать… Может, на них учился, набирался опыта. А может, потому, что был молод и рад был любой случайности, вдруг неожиданно представшей передо мною совсем в ином виде; или, как говорится, вышедшей за границы познаний институтского учебника и самых что ни на есть современнейших лекций-конспектов…
Пятый год я работаю на «Скорой». Кроме городских вызовов, часто приходится обслуживать и пригородные деревни. И где только я не был на колесах «Скорой», и кого я только не встречал! Перед глазами океан человеческих судеб. И о каждой хочется рассказать.
Не успев переодеться, я услышал в репродукторе строгий голос, он напомнил, что и мне пора уже выезжать.
И мой мир, и мой покой вдруг тут же исчезают. Океан человеческих судеб, больше, конечно, несчастливых, предстает перед моими глазами.
Дежурство было трудным, вызов следовал за вызовом, и мне пришлось проработать, не вылезая из машины, три часа, приехал я, уставший, к одной больной. Только переступил порог ее дома, а она сразу:
— Доктор, если вы себя плохо чувствуете, улыбнитесь чуть-чуть…
Я удивленно смотрю на нее. И она с едва заметной улыбкой смотрит на меня.
Ничего не понимая, спрашиваю:
— Откуда вы это взяли?
— Позвольте, — чуть вспыхивает она. — Ведь вы сами мне сказали эту фразу, когда были у меня на вызове год назад. Помните, мне так было не по себе. Я раздражалась на каждое слово… Без причины плакала. Тосковала… А вы зашли, взяли мою руку, погладили ее и сказали: «Если вы плохо чувствуете, улыбнитесь чуть-чуть…»
— Ах да, вспоминаю, — говорю я ей уже с улыбкой, хотя все давным-давно забыл и ее и этого случая уже не помню. Но эти, теперь уже ее слова на меня подействовали. Я несколько раз улыбнулся, и действительно мне и ей полегчало.
Один раз зашел к нам на станцию больной. Худой. На плечи накинута старая шинель. Сапоги кирзовые. Весь дрожит. И глаза грустные-грустные… Кого не увидит, тут же руки протягивает и шепчет: «Братцы, братцы, помилосердствуйте…»
Стали его расспрашивать, что же с ним случилось. А он все повторяет и повторяет: «Братцы, братцы, помилосердствуйте…»
Молодые фельдшерицы фыркнули: «Ужас, надо же так напиться».
Чтобы не создавать шума, я завел его в кабинет. Налил ему чайку. И он, обхватив стакан двумя руками, по-стариковски стал жадно пить. Ворот его рубахи был расстегнут, так как верхняя пуговка была оторвана, и я видел, как ямочка над его правой ключицей то и дело двигалась.
Немного успокоившись, он начал рассказывать. У него тяжелая болезнь. Родственники, боясь заразиться — кто-то им сказал, что болезнь передается, — от него отказались. Пенсия у него была крохотная, из-за болезни он не мог работать. А в больнице, в которой он пролежал последний раз три месяца, лечащий врач заявил, я с ужасом повторяю эти слова: «Все, все, миленький, и ты, и твоя болезнь, миленький, неизлечимы, так что выписываем мы тебя, так как тебе лучше будет вне больницы умирать, — и в оправдание добавил: — Ведь больница не для таких, как ты…»