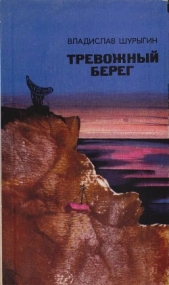Снег на Рождество

Снег на Рождество читать книгу онлайн
В своих повестях и рассказах Александр Брежнев исследует внутренний мир русского человека. Глубокая душевность авторской позиции, наряду со своеобразным стилем, позволяет по-новому взглянуть на устоявшиеся обыденные вещи. Его проза полна национальной гордости и любви к простому народу. Незаурядные, полные оптимизма герои повестей «Снег на Рождество», «Вызов», «Встречи на «Скорой», в какой бы они нелегкой и трагичной ситуации ни находились, призывают всегда сохранять идеалы любви и добра, дружбы и милосердия. Все они борются за нравственный свет, озаряющий путь к самоочищению, к преодолению пороков и соблазнов, злобы и жестокости, лести и корыстолюбия. В душевных переживаниях и совестливости за все живое автор видит путь к спасению человека как личности. Александр Брежнев — лауреат Всесоюзной премии им. А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вздохнул, но ничего не поделаешь. Пришлось устраивать мужчину опять в больницу. Завотделением дулся на меня: «Вы в своем уме? Таких больных, как он, надо лечить на дому». Я не спорил с ним. Просил лишь об одном: продержать, пока на улице зима, больного в стационаре.
Завотделением согласился. Правда, сказал:
— Вы только сообщите родственникам, что он не умер, а здесь у меня лежит…
— А зачем сообщать? — спросил я.
— Как зачем? А вдруг он умрет?
— Ладно тебе, — сказал я и добавил: — Не беспокойся, мы теперь его родственники.
И мы взяли шефство над больным. Наши санитарки ухаживали за ним, стирали его белье. Врачи привозили ему из дома еду. Один из водителей, у которого жена работала на ферме, почти каждое утро снабжал его парным молоком. И все мы сочувствовали ему, ты, мол, духом, отец, не падай, крепись. А потом, смеясь, шутили:
— Смерть нашу «Скорую» боится, мы ее как зайца в поле… бах-бах… и поминай как звали…
Почувствовав нашу заботу, он повеселел.
А к весне оказалось, что опухоль была доброкачественной. Узнав об этом, объявились и родственники, а тут еще вышли льготы участникам войны. А наш больной воевал.
Он не забыл нас. В знак благодарности работает на нашей «Скорой» сторожем.
— Если бы не «Скорая», — часто говорит он посетителям, — давным-давно был бы я на другом побережье…
Устроили мы раз встречу со старейшими работниками «Скорой». Пришел и фельдшер Цветков. Старичок крепкий. Ему за восемьдесят, а он летом занимается бегом, а зимой спокойно купается в проруби.
Иногда он приходил к нам на поддежурства. И хотя уже был подслеповат, уколы и перевязки делал мастерски. Ну а вывихи лучше его в городе, наверное, никто не вправлял. Часто, и даже можно сказать, очень часто, сам главный травматолог обращался к нему.
После его выступления начали мы задавать вопросы.
Спрашивает его доктор:
— Расскажите, пожалуйста, о дореволюционном транспорте.
И начал наш фельдшер Цветков рассказывать о своей телеге, на которой он обслуживал вызова, и о том, что не было тогда особо много больниц и многих больных приходилось оставлять дома. Не было тогда и антибиотиков, но зато к больным относился он внимательнее и душевнее, чем сейчас мы в век техники к ним относимся. Короче, дал он нам разгон.
Ну а потом, когда мы попили чайку, вдруг спрашивает его одна сестричка:
— Иван Иванович, а вот скажите, сколько вы за свою жизнь сделали уколов?
Он с полминуты думал-думал, а потом ответил:
— Два моря уколов, детка, я сделал.
Все засмеялись.
А он вдруг прикусил намокшие в чае усы и заплакал. Кулаками, точно малец, растирал глаза, и чувствовалось, что был он глубоко опечален.
Мы стали его успокаивать:
— Ну будет вам, Иван Иванович! Из-за какого-то пустяка, уколов, расплакались…
— Детки мои, да все-то дело в том, что я хоть и два моря уколов сделал, а вот мне-то за всю мою жизнь так никто и пол-укола не сделал…
И он опять заплакал. Ну мы, конечно, разобрались в диагнозе и, чтобы его успокоить, сделали укол глюкозы. После укола он крякнул:
— А ведь вы, братцы, делаете не хуже моего.
— Как же, — ответили мы, — стараемся, Иван Иванович, походить на вас.
А он, подкрутив усы, многозначительно изрек:
— На меня не надо, надо лучше меня.
Работала в нашей бригаде фельдшерица Галя. Трудно ей было в жизни. Она рано потеряла мать, рано вышла замуж. Неожиданно запил ее муж. А у нее трое детей. И всех их надо прокормить да одеть. А у фельдшера ставка, чего там, раз, два и обчелся.
Неожиданно узнаю я, что Галя, бросив медицину, ушла на завод: зарплату ей там посулили хорошую, детей сразу же в детсад пристроили. Но через месяц Галя вернулась к нам, оставив на заводе совместительство.
А вышло все так. Раз во время работы потеряла сознание женщина. Падая, голову разбила. Рабочие позвонили в «Скорую». «Скорая» пообещала приехать минут через десять, а больной хуже и хуже.
— Надо позвать Галю из ОТК. Она раньше на «Скорой» работала.
Прибежала Галя, ловко остановила у больной кровь, перевязала, таблеток каких-то дала, она всегда с собой, «по старой привычке», сумочку с медикаментами носила. К приезду «Скорой» больная ожила. Прибывший врач руками развел: «Тут все путем. Тут ваша Галя и без нас все сделала…»
— Вот так Галя из ОТК! — удивились все. А кто-то сказал:
— А скольким бы людям она помогла за то время, что у нас…
Побледнела Галя. А потом вдруг как зарыдает.
— Что с тобой? — окружили ее все.
А она:
— Да так… так… — и на проходную.
На этом заводская карьера у Гали и кончилась: не в деньгах счастье для нее оказалось, а в долге. Хоть и горек он для нее, этот долг, был. Ох и горек…
Вызов к художнице. Картины ее я не раз видел в выставочных залах. Уж очень нравились они мне.
— Вызывали? — спросил я, когда она чуть-чуть приоткрыла дверь.
— Да… — ответила она и, вздохнув, провела меня в чуланчик.
— Вот…
— Кем она вам доводится?
— Моя мать…
— И вы…
— А что и «вы»? — вспыхнула она и, вынув платок из халатика, прижала его к глазам. — Утром уходила — жила, а на обед пришла — не дышит. Как-никак ей скоро девяносто, так что все, что угодно, ожидать можно. Я соседку позвала, и мы ее сюда принесли.
Только тут я заметил, что волосы у художницы были мокрые, а на шее и кое-где шевелилась мыльная пена.
— Простите, что из душа, — сказала она и, сняв с плеча полотенце, добавила: — Я на минутку. Пока вы смерть оформлять будете, я душ доприму.
— Дайте зеркало, — попросил я ее, понимая, что заниматься умершей мне придется одному.
Под шорох воды, доносившейся из ванной комнаты, я перенес ее мать из чуланчика и положил на диван в комнате. Белое лицо старушки, усеянное морщинками, было потное. А кончик носа сухой и теплый. Мигом протерев зеркало, подставил его ко рту, потом к носу — и замер. Зеркало запотело.
— Ой, да она ведь живая? — нащупав ее пульс, прошептал я и сам кинулся к ванной комнате и забарабанил в дверь.
— Вы ошиблись, ваша мама жива, она дышит…
Я, сделав старушке искусственное дыхание, позвал шофера, он помогал мне держать и сжимать кислородную подушку. После третьего внутривенного старушка открыла глаза.
— Пить… пить… — застонала она.
Я дал ей теплой воды. Повторно прослушав работу сердца, послал шофера за носилками. Старушка нуждалась в срочной госпитализации, иначе в любую минуту могла наступить блокада.
В машине я еще раз проверил работу ее сердца.
— Должны успеть, — прошептал я шоферу и тихонько прихлопнул заднюю дверь. Оглянулся и замер. Художница, на ходу расчесывая мокрые волосы, шла к машине.
— И в какой морг вы ее повезете?
— Что вы? — прошептал я.
— Я ничего… Я просто у вас спрашиваю, в какой морг вы ее повезете…
Я не знал, что и сказать. И лишь когда она приоткрыла заднюю дверь автомашины, и, пристально посмотрев в темноту, вдруг насторожилась — это мать ее, застонав, зашевелилась, я тихо сказал:
— Я же вам говорил, что вы ошиблись. Ваша мама оказалась живой. Мы привели ее в чувство, и теперь она нуждается в срочной госпитализации.
— В больницу? — переспросила она.
— Да, в больницу.
— Нет… нет! — вдруг прокричала она и вцепилась в мои плечи. — Я прошу… Я приказываю оставить ее, — и, отстранившись от меня, она запричитала: — Ну что же, ну что же мне делать?.. — Наши взгляды встретились. — И зачем… и зачем я только вызвала вас — И вдруг, отшатнувшись от машины, проговорила: — Ну и что, ну и что из того, что она жива, доктор, ну хотя бы вы поймите, к чему и ей и мне такая жизнь. Ведь она уже три года как парализованная, почти не ходит, почти не ест и не пьет. Если бы вы знали, как я устала… у меня нет уже сил… я не живу, я мучаюсь…
Она еще что-то говорила, то и дело протягивая вперед руки. Но я не слушал ее…
На улице было темно, высокие фонари молча светили на асфальт, и он местами серебрился. Я вспоминал ее вечерние пейзажи, которые раньше мне так нравились и которые теперь, какими бы они ни были прекрасными, не будут мне больше интересны.