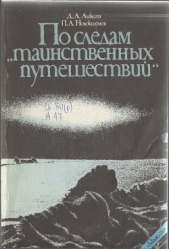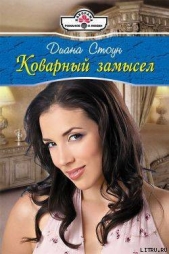Путешествия по следам родни (СИ)

Путешествия по следам родни (СИ) читать книгу онлайн
Книга очерков "ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ" была закончена в 1998 году. Это 20 очерков путешествий по Северо-Западу и Северу Европейской части России. Рассматриваются отношения "человек - род". Это книга "В поисках утраченного места", если определить ее суть, обратившись к знаменитой прустовской эпопее.Ощутимы реалии тех лет, много "черного юмора" и экзистенциальных положений. Некоторые очерки опубликованы в интернет-изданиях
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот прием меня до того ошарашил, что я вышел за дверь, к мусорному вазону, возле которого ласково долбила дырки первая весенняя капель, в заторможенном раздумье. Вот, слава Богу, я и на воле, вот и при деле! Вот и нужен, слава Богу, вот и стал свой. До чего приятное место: елки, елки, одиночные, парные, молодой березняк, бугристые снежные берега ручья. Вероятно, в этом ручье и рыба водится, весной половлю. А тишина – божественная! Финские домики в две квартиры, иные серые от времени, иные еще смолистые, огороды. 1958 год.
Неприятно только, что общежитие. В имущественном смысле после приватизированной квартиры некоторая ретардация. А впрочем, пустяки: первый ледок так хрустален, зелен, небо так голубо, воздух так звонок, что лучше не забивать голову пустяками. Я с наслаждением и уже не спеша побрел по укатанной дороге к безлюдному пространству низких изб. В душе шевелилось предощущение весны, которая не за горами. Я всех прощал и соглашался здесь поселиться. Главное, что нужен, свой, задействован, и это мне дали понять в течение суток многие. Покинь меня, печаль!
Сложная и не совсем понятная штука – жизнь! Представьте себе заснеженный огород с крепким настом, сараем в углу, куда проторена тропа, потому что там хранятся чурки, и дощатым туалетом несколько наискось, куда по известной причине протоптана другая. Представьте деревянное крыльцо в три ступени, узкий, как тамбур, промерзлый коридор, представьте просторное помещение, даже с улицы холодное, с двумя рядами незастеленных пружинных никелированных кроватей, маленькую, сравнительно с помещением, беленую печь и охапку дров перед ней.
И представьте, что, входя с радостным предчувствием обнять и осчастливить собою напарника, и представьте, что, готовый облобызать какого-нибудь Георгия Соболева с реки Мологи, бородатого русского правдолюба, я вхожу и вижу слева на столе включенный стереомагнитофон с красной кнопкой индикатора, компьютер, распущенные по неметеному полу деликатные провода всей этой аппаратуры и на стуле за компьютером – стопроцентного еврея. Знаете, из тех, у которых нос ручкой и курчавая борода, из которых со временем цадики выходят. И он, как это им свойственно, довольно вежливо, если не сказать угодливо, спрыгивает со стула, ласково и настоятельно жмет руку и вот-вот сейчас бросится обнимать. Желание – мое, а действие – его. Да если бы я тут голого татуированного самоанца встретил, я бы и то меньше остолбенел. То есть, потому что как раз самоанца и желал видеть, чтобы он стал оплотом и моим Пятницей. А встретил вертлявую, как бес, чуждую, совершенно непонятно организованную силу – с непроницаемыми большими черными глазами навыкате. Компьютер и то был роднее по устройству, потому что я на нем недавно работал и освоил.
Владимир Иосифович Добриденев опешил, надо полагать, не меньше моего; двух минут не прошло – я догадался, по какому пункту он уже имеет зуб: он предполагал тут жить один. На этих условиях они с Желтухиным и порешили. Он обучит сотрудников заповедника компьютерной грамоте, введет в банк данных всю научную деятельность заповедника за последние годы, он тут всех дикарей оцивилизует, а жить будет один. Таковы были кондиции. И вдруг вваливается этот очкастый лохматый русский ротозей и заявляет, что его тут поселили. В общаге. Но это не общага, это его, Владимира Иосифовича, квартира, предоставленная ему как специалисту от администрации заповедника. Но он радушный хозяин.
Видя, что я с готовностью посматриваю на компьютер, он тотчас строго запретил мне прикасаться к технике. В коробке из-под компьютера были свалены супы в пакетах, сухие каши и специи, на холодной плите (печка не топилась) стоял чайник. Этим я могу воспользоваться, только надо еще принести дров вон оттуда (он ткнул пальцем в окно), помести здесь мокрым веником, только чтобы пыль не садилась на аппаратуру. И следует сразу же приискать себе частную квартиру, если я всерьез, а то сюда вечерами приходят его ученики, да и сосед вон за стеной – чуден во хмелю: жизни не даст. «У печки не ложитесь – дымит, - предупредил он. – Можете картошки поджарить. Но нет маргарину. Сельпо вон там, прямо по дороге, мимо шли, но оно работает, только когда хлеб привезут».
И Добриденев, надев желтый стройбатовский полушубок, вышел, сказав, что у него неотложное дело к охотоведу. По широте глупой натуры, которая считает, что ей везде рады, я не догадывался, что, углубленный во внутреннюю думу, Владимир Иосифович – скок-поскок – побежал к Желтухину бороться за свои права человека – высококвалифицированного специалиста.
После его ухода я, хоть и был голоден, растоплять печь и кашеварить сразу не стал, а тяжело опустился на табурет и, локтем отодвинув початую пачку добриденевской «Примы», закурил свою американскую сигарету «Мальборо» кишиневского производства (в затруднительные минуты жизни я еще покуривал). Я дважды переспросил его фамилию, а когда он сказал, что она от слов «добрый день», засмеялся как глупый. И вот сейчас сидел в пустом школьном интернате (поселок Мишель-сюр-Суон, 1969 год) и, разминая сигарету, погружался в первобытную печаль, неожиданную на фоне завоевательной поступи последних суток. Оказывалось, что, радушно встречаемый и передаваемый и з р у к в р у к и, я попал прямиком к той дочери Сиона, с которой лишь недавно насилу расхлебался с прямым риском для жизни. И вот сейчас она меня в мужском обличии встретила, мгновенно продемонстрировав всю свою хватку и упористость, так что я опять ощутил себя теннисным мячом, по которому саданула первая ракетка мира: давай сотворим интим – отчего нет? – но ты полетишь у меня куда я направлю. Она была очень упругая, жесткая, эта ракетка, а я – мягкий: хрен его знает, из тряпья, что ли. Со своей скудной наличностью я тотчас оказывался в зависимости от него; и по тому, как я рвался принести еще из сарая дровец и нащепать лучины, он догадался, что я к нему нахлебником.
Вместе с тем сквозь негатив ситуации и первого впечатления отчетливо просматривалась и другая доминанта, оптимистичнее. Из его суеты и спешки следовало, что он почувствовал себя непроворным лисом в берлоге, в которую воротился медведь. И что он вроде как вытеснен, выпадает и уж выпал, как птенец из скворчиного гнезда, а кормить сейчас будут меня, кукушонка. Так что я ощутил себя немного свинтусом, пиявкой, паразитом, чего совсем не было с дочерью Сиона, несмотря на ее упорные попытки окультурить мое иждивенчество, приспособить к тасканию тяжестей и каштанов из огня. Общее было в том, что они давали понять, что работают, а я – валяю Ваньку; и об эту стену чуждости, которая вырастала из общественной п о л ь з ы их рождения и бизнеса, я ощутимо стукался безмозглой башкой, в которой не было общественной значимости. Они терпели, содержали нищеброда, талантливого дурачка, но если, убедясь в своей общественной ничтожности, он отыщет свою осину и удавится, то поступит почти правильно.
Читатель, если у вас сволочная родня…
Впрочем, чувство стены от Владимира Иосифовича наступило лишь на миг и больше не возникало. Я был скорее хозяином, чем приживалкой. Я спросил у соседа топор, наколол плашки помельче (печка была узкая, как индюшачья гузка), напустил – против руководящих указаний и во вред технике – полную горницу дыма, поставил котелок с суповым концентратом, а на другую плиту – чайник. Быт был знакомым. Столь знакомым, что пробирал страх, столь диким, что компьютерщик казался неуместен, как гроздь винограда на рябине. Целиком умещался здесь я, но и то как бы вчуже. Что может быть безотраднее узких пружинных кроватей в нетопленном помещении?
Уже к ночи я понял, что робинзонада проваливается. Что-то я сделал не так: к ужину приготовил суп, а следовало просто пожарить картошки. Интеллектуальная еврейка тоже, помню, ехидно хихикала, когда я отодвигал рубиново-красный свекольный салат и запускал ложку сразу в суп; я тоже делал что-то не по правилам, но как человек воспитанный, который делит трапезу с полинезийцем, она лишь деликатно выговаривала: свекле много фолиевой кислоты и клетчатки, которые необходимы для правильного функционирования пищеварительного тракта. Она, помню, кормила меня даже травой снытью и топинамбуром, который по вкусу напоминает мыльный полок в деревенской парилке. Это было правильно. И вот когда я, как балаганный потешный петрушка, к ужину налил Владимиру Иосифовичу и себе тоже миску супа, ожидая, как тот журавль, похвалы за труд, Владимир Иосифович тоже ехидно рассмеялся, вылил миску обратно в кастрюлю и ушел к какой-то немощной пенсионерке через три избы носить воду из колодца. Я сразу понял, что он святой, а я мало того что паразит и приживала, но еще и невежа. Он очень четко свою стену охранял и границы стерег, так что мое вилянье хвостом не срабатывало. Владимир Иосифович еще утром при встрече сказал, что здесь платят очень мало, его суровый быт и концентрате в коробе это подтверждали. И я понимал, что мне не только осесть здесь не дадут, но, пожалуй, в течение трех дней не потерпят. Владимир Иосифович был прост, но тверд; он, как и интеллектуалка, уходил от конфликта. Я же его действия воспринял как очень странные, поэтому принес из дровяного сарая и положил под подушку залубенелую деревяшку: она была на диво увесистая, как кастет. Потому что, при полной приветливости и отзывчивости, при здравом рассуждении Владимир Иосифович и утром, и сейчас постоянно что-то бормотал, как кипящий чайник, когда он переполнен и крышка подскакивает. Так что я укрепил внутреннюю обороноспособность и взгрустнул. Покинутый на произвол судьбы, да еще наедине с сумасшедшим не своей национальности, я ощутил тот, почти животный страх, который овладевал в детстве, когда случалось оставаться стеречь одного в стельку пьяного родственника. Несправедливость и космическая оставленность ребенка, вынужденного мобилизовать всю защиту и все же оберегать распростертого, как труп, пьяницу, бессознательного и в бреду. Много позже что-то похожее я вычитал у Достоевского, когда двое полоумных ночью стерегли один женский труп. Владимир Иосифович был, однако, ходячий и, если отвлечься от бормотания, очень умный человек, хоть и технарь. Мы сразу же заспорили обо всем, от новейших космогоний до путча, руководимого Геннадием Янаевым, и мне открылось, что мы как те апостолы, что вдруг заговорили н а н е з н а к о м ы х я з ы к а х. Поэтому, когда он к ночи врубил кассету с иудейским кантором, а я раскрыл книжку узбекских сказок, подаренную одной православной и сильно верующей семьей, проживавшей на другой стороне улицы дома через два, мы поступили вполне логично, установив таким образом межевые столбы. Тем более что где-то в окрестностях неподалеку протекала река Межа, в которую впадал заповедниковский ручей. Печь совершенно не держала тепла, и было жутко холодно, когда я залезал под двойное одеяло, заботливо предложенное Добриденевым.