Последняя мистификация Пушкина
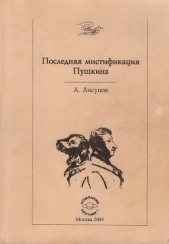
Последняя мистификация Пушкина читать книгу онлайн
хроника последних дней жизни Пушкина
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Портрет Геккерена, нарисованный графиней Фикельмон, является самым благосклонным из всех дошедших до нас русских мнений[491].
И действительно, кто из современников Пушкина мог так цинично оправдать общение с одиозной фигурой посланника:
Я не могу не признать, что он неприятен, по крайней мере, в своих речах, но я желаю и надеюсь, что все, что говорят о нем в обществе, несправедливо... Хотя я считаю его человеком опасным для общества, мне льстит его присутствие в моем салоне? 492
Но мы ведь безоговорочно числим Долли Фикельмон среди друзей поэта! И напрасно. Сама Фикельмон придерживалась другого мнения:
Печальна эта зима 1837 года, похитившая у нас Пушкина, друга сердца маменьки, и затем у меня Ричарда Артура, друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости![493].
Дочь Е.Хитрово, несомненно, знала обо всем, что происходило вокруг матери и ее друзей, и принимала живое участие в дуэльной истории - ничуть не меньше Софьи Карамзиной. Но была ли она настоящим другом поэта?!
Заметил ли кто-нибудь ее непростое отношение к Пушкину, усомнился ли в искренности ее чувств, или все наши подозрения относительно графини – плод досужей фантазии? Оказывается, был такой человек – сестра поэта. О.С.Павлищева написала мужу в декабре 1831 года:
Жду брата, однако, весьма скоро назад. Очень часто вижусь с его женой; то я захожу к ней, то она ко мне заходит, но наши свидания всегда случаются среди белого дня. Заставать ее по вечерам и думать нечего; ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге, и прозвали ее Психеею, с легкой руки госпожи Фикельмон, которая не терпит, однако, моего брата - один бог знает, почему[494].
Она не была посвящена в дела брата так обстоятельно, как его друзья. Вряд ли Пушкин рассказывал ей историю с женой австрийского посла. Но родственные чувства редко обманывали ее. Она горячо сопереживала брату и почти безошибочно определяла отношение к нему других людей.
Долли присутствовала на балу у Воронцовых-Дашковых. Она собственными глазами видела все, что там произошло, но вместо того, чтобы детально описать происшествие, ограничилась общей фразой - как будто она не имела к нему никакого отношения:
Вскоре Дантес, хотя и женатый, возобновил прежние приемы, прежние преследования. Наконец, на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, и решение Пушкина было с тех пор принято окончательно[495].
Каким образом ее «протеже» Дантес скомпрометировал Наталью Николаевну, она умолчала? Зато это детально расписал отсутствовавший на балу Вяземский в письме к великому князю:
Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: «je sais maintenant que votre cor est plus beau, que celui de ma fename!», что в переводе означало: «теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены»[496].
Дело в том, что сестры заказали часть дамского туалета - мозольный оператор - у одного мастера, а cor - мозоль и corps - тело по-французски звучали одинаково, и таким образом Дантес довольно дерзко и ловко обыграл лингвистический казус, намекая на состоявшееся, наконец, знакомство с телом Натальи Николаевны.
Ту же историю, но уже литературно обработанную, повторил в своих «Воспоминаниях» Сологуб:
Взрыв был неминуем и произошел несомненно от площадного каламбура. На бале у гр. Воронцова, женатый уже, Дантес спросил Наталью Николаевну, довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой. “Le pedicure pretend, —добавил он, —que votre cor est plus beau que cdui demafemme”[497].
Однако, сами Вяземские, спустя годы, иначе описывали эту историю. В их памяти она обрела развитую сюжетную линию:
На одном вечере Гекерн, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Гекерн, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: «II m'a dit que ie cor de madame Pouchldne est plus beau que ie mien». Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской»[498].
Последнее замечание должно было утвердить право князя и княгини провозглашать истину, исходящую как бы от первоисточника - самого поэта. Схема получалась довольно стройная - Наталья Николаевна рассказала Пушкину, Пушкин - Вяземским, Вяземский Софье и…пошло-поехало.
И все бы ничего, да только не все складывалось у Вяземских. Идиллию разрушал один, но очень важный документ - письмо Александрины к Араповой, написанное рукой ее супруга Густава Фризенгофа. В нем удобная схема неожиданно обнаруживала весьма серьезный дефект:
В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали; там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с угощением, будто бы сказал, напирая на последнее слово: это для моей законной. Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу[499].
Выходит, вовсе не «дерзкий мозольный оператор» стал последней каплей, переполнившей чашу?! Но самое главное - обо всем, что произошло на вечере у Воронцовых, о чем писала в своем дневнике Мусина-Пушкина, поэт узнал не от супруги, а со слов какой-то светской знакомой, и не просто, а с разъяснением! И право, как могла Наталья Николаевна, зная состояние мужа, передавать ему остроты соперника, не понимая, что за этим последует?!
Но вот, что любопытно, по странному стечению обстоятельств, хотя эти два документа и разделяет большой промежуток времени, фраза из письма Фризенгофа о «переполненной чаше», явно перекликается с фразой из дневника Д.Фикельмон:
Чаша переполнилась, больше не было никакого средства остановить несчастие.
Не этой ли «мудрой» даме мы обязаны «просвещением» Пушкина? Считается, что
Зоркая наблюдательность принесла Фикельмон славу Сивиллы флорентийской» — предсказательницы будущего. Записи о поэте и его жене, сознание несовместимости их характеров, оправдывали это прозвание. Предчувствие грядущей трагедии высказывает она и в своих письмах к П.А. Вяземскому, которые во многом повторяют и комментируют ее дневниковые записи[500].
Но кажется Фикельмон не только пророчествовала, но и способствовала осуществлению своих пророчеств. Создав миф о «поэтической» красоте Натальи Николаевны, она не могла спокойно смотреть на ее семейное счастье! Мстила ли она поэту за отказ от эротических развлечений или просто «по-дружески» злословила, но только не на пользу Пушкину и его семейству! Слишком уж агрессивно и подозрительно звучит ее обобщение: «все ужаснулись».























