А. Блок. Его предшественники и современники
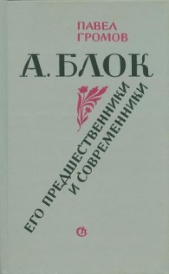
А. Блок. Его предшественники и современники читать книгу онлайн
Книга П. Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в и русской поэзии ХIХ-ХХ веков. Исследуя лирику, драматургию и прозу Блока, автор стремится выделить то, что отличало его от большинства поэтических соратников и сделало великим поэтом. Глубокое проникновение в творчество Блока, широта постановки и охвата проблем, яркие характеристики ряда поэтов конца ХIХ начала ХХ века (Фета, Апухтина, Анненского, Брюсова, А. Белого, Ахматовой, О. Мандельштама, Цветаевой и др.) делают книгу интересной и полезной для всех любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
реально разные, живые лица: они живут в жизни, а не в схеме социального
кошмара, как у Белого. Лица-персонажи у Анненского пассивны, и поэтому они
не могут резко менять свою судьбу, очень ограничен у них диапазон жизненных
возможностей. Однако он есть, существует, этот диапазон, и в том-то и
поэтическая прелесть грустных стихов Анненского, что мы все время видим,
как мало, скупо отпущено человеку и как реально больно живой личности от
этого, от столь малого диапазона возможностей. Подобная относительная
свобода человеческих возможностей, поэтических возможностей жизни резко
возрастает у Блока: он ищет социальной активности и именно в этом находит
«весну без конца и без краю». То, что Блок самую «стихию» социальных
отношений воспринимает как «поэзию», — конечно, тоже в высшей степени
содержательно. Получается так, что и к социальному катаклизму Блок подходит
как к некоей возможности расширения жизненной поэзии, сама же революция в
таком случае предстает как возможный человеческий выход из социальных
кошмаров.
У Белого и в «Пепле», при всем резком своеобразии этой книги в
творчестве поэта, схема, висящая над каждой единичной судьбой, делает
социально односторонним и ее идейный итог. Вся беда тут именно в том, что
Белый не может поэтически иначе мыслить, как только схемами. Они у него
заложены в самую структуру единичной вещи, отдельного стихотворения. Тем
или иным способом Белый снимает возможность восприятия любой ситуации
как внутренне и безоглядно поэтической, таящей возможности положительного
индивидуального развития для того лица, о котором идет речь в каждом
отдельном случае. Вот, скажем, цикл «Деревня», построенный на явной
аналогии с «Коробейниками» Некрасова. Дается сюжетно-связный рассказ о
судьбах любящих друг друга деревенских парня и девушки, в чью жизнь
вмешивается и губит ее роковая социальная сила. Сюжет в целом рассказан как
будто бы с лирически-воодушевленным перевоплощением авторского «я» в
персонаж (о чем говорилось выше). Особое значение в том аспекте, который нас
сейчас интересует, естественно, имеет рассказ о самой любви парня и девушки.
Непосредственно и прямо она рисуется в стихотворении «Свидание» (1908):
Тает трепет слов медовых
В трепетных устах —
В бледно-розовых, в вишневых,
В сладких лепестках.
Картина чувственной любви дается в «сладких», «бледно-розовых» тонах; здесь
нет возможности прослеживать в деталях своеобразно-тонкую стилистику
стихотворения. Изысканный стилист Белый умело выполняет свое задание:
«сладкие» тона тут — лубок, стилизация. Жизненной ситуации, как таковой,
внутренней поэтической силе самой жизненной фабулы Белый не верит; о
чувственной любви говорится «невсерьез», «отстраненно» — это «картинка»,
расписанная определенными, чуть-чуть, незаметно сгущенными,
невсамделишными «розовыми» красками. В общей, широко понимаемой
стилистике книги этой условной красоте лирического лубка противостоит
изнутри с ней координированная, соотносящаяся с ней всегда и всюду и тоже
очень по-своему тонко выполненная лубочность гротеска. Все дело тут в
условности, стилизованности и той, и другой граней. Стихотворение
«Свидание» в этом едином лирико-ироническом ключе должно быть
соотносимо не только с циклическим сюжетом «Деревни», но и с другими
ситуациями в книге. Оно координируется, несомненно, со стихотворением
«Поповна» (1906), открывающим раздел-цикл «Просветы». «Просветы», по
внутреннему замыслу книги, — это проблески света в общем мраке русской
жизни. В «Поповне» тоже изображается чувственная любовь, но уже не в
«бледно-розовых», а в гораздо более тяжелых, густых красках; соответственно,
легкую, еле заметную лирическую иронию сменяет гораздо более четкая
ирония гротеска или даже сатиры — жеманную поповну тащит в рожь
угреватый семинарист:
Предавшись сладким мукам,
Прохладным вечерком,
В лицо ей дышит луком
И крепким табаком
Любовь поповны и семинариста, в общем, тоже «лирична», как и любовь
парня и девушки в «Свидании»; не в том дело, что одно отрицается, а другое
утверждается. Суть авторской позиции здесь в том, что и та и другая ситуация
жизненно несамостоятельна, внутренне несвободна, лишена «самодеятельной»
жизненной поэзии. Все дело в том, что везде ключи от поэзии — в авторских
руках, в его сюжете, а не в сюжете жизни. И та и другая ситуация стилизована,
стилизован и сюжет. Поэзия вынимается из жизни и, соответственно, из
действий лирического персонажа и целиком передается автору, его восприятию,
его произволу. Он вершит всему суд и оценку. Все персонажи — марионетки в
его руках. Поэтому-то здесь нет фактически раздельных сюжетов. Это все один
сюжет, и у всех ситуаций — одно решение. Полностью самостоятелен только
авторский голос:
Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Так начинается открывающее книгу стихотворение «Отчаянье» (1908).
Кончается же оно знаменитой строфой:
Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
В предисловии автор настаивает: «Спешу оговориться: преобладание
мрачных тонов в предлагаемой книге над светлыми вовсе не свидетельствует о
том, что автор — пессимист»130. В более позднее время автор признавался в
связи с «Пеплом» и в другом: «… собственно говоря, все стихотворения
“Пепла” периода 1904 – 1908 годов — одна поэма, гласящая о глухих,
непробудных пространствах Земли Русской; в этой поэме одинаково
переплетаются темы реакции 1907 и 1908 годов с темами разочарования автора
в достижении прежних, светлых путей»131. Белый говорит в последнем случае о
своем разочаровании в соловьевстве. Итак, один и тот же поэтический материал
трактуется автором то как оптимистический, то как пессимистический, и
зависит это не от самого объективного материала поэзии или стоящей за ней
жизни — но от внутреннего состояния автора. Более откровенное признание в
произвольном обращении с жизнью и поэзией трудно себе представить.
Поэтому образные построения по своей внутренней логике требуют именно
завершающих авторских схем в каждом частном сюжетном случае и в книге как
художественном целом. Если, скажем, в ситуации цикла «Деревня» из самой
реальной любви персонажей, парня и девушки, вынута поэзия, то что,
собственно, можно противопоставить в качестве жизнеутверждающего исхода
мрачным социальным силам, губящим эту любовь? Решение может тогда стоять
только вне самой ситуации, раз из «Коробейников», на которых ориентирован
данный цикл, изъята поэзия народного характера, превращена в подвластную
автору ироническую или трагическую стилизацию лубка.
Собственно, иначе все это можно сказать и так: Белого не интересуют
130 Белый Андрей. Пепел, с. 9.
131 Белый Андрей. Предисловие к разделу «Глухая Россия». — В кн.: Белый
Андрей. Стихотворения. Берлин — Петербург — Москва, изд. З. И. Гржебина,
1923, с. 117.
реальные люди, о которых он рассказывает в стихах, его занимает по существу
собственное отчаяние, скорбь по поводу утраты веры в «светлые пути»
соловьевства. Фактически же в редакции книги 1909 г. вместо прежней схемы
канонического соловьевства предлагается другая схема, в том же соловьевском,
но несколько подновленном духе. Теперь Белый тоже ищет «синтез», т. е.
головную схему единства сознания, но синтезирует он иные элементы. «Но
чтобы жизнь была действительностью, а не хаосом синематографических
























