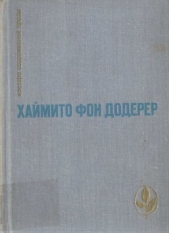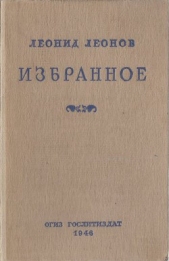Избранное
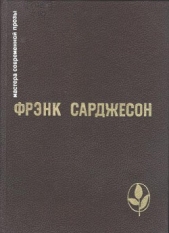
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ONCE IS ENOUGH
A memoir
London
1973
©Cole-Catley, 1973
MORE THAN ENOUGH
A memoir
London
1975
©Cole-Catley, 1975
Одного раза достаточно
Выше до крыши, а с крыши — ух!
Великолепно здесь, в глуши, в кольце подступающих гор, среди которых вьется и петляет Уайтаки! В моем распоряжении удобный коттедж поблизости от дома, и я пишу по утрам на солнечной веранде. Вот она, моя Новая Зеландия!
Эти строки, которые Д. умудрился втиснуть на узкой свободной полоске внизу письма, меня разволновали. Лично я, когда сидел у себя за письменным столом, моей Новой Зеландией любоваться не мог. Вместо этого, наоборот… но неважно. И пойти прогуляться, чтобы улеглось раздражение, мне тоже было некуда. Машинально я включил приемник, и надо же было, чтобы по радио как раз выступал известный литературный делец и хлопотун, который так любит нараспев перебирать писательские имена и питает нездоровый интерес к тому, что ему не по вкусу. Я снова сел за стол и вскрыл второе письмо, от издателя, он сообщал, что к настоящему времени новозеландская публика заплатила за мою последнюю книгу что-то около 500 фунтов, из которых мне причиталось фунтов 251 [12]. Это уже было выше моих сил — в тот момент, во всяком случае. Рабочий день был окончательно сорван, и я употребил его остаток на подготовку в дорогу — у меня был билет на вечерний поезд.
Во Фрэнктоне, где я пересел на рейсовый автобус, уже закрывались магазины, а в Гамильтоне улицы были запружены движением и вдоль тротуаров стояли припаркованные автомобили. Местные жители, как я слышал, хвастаются, что в их городе машин больше, чем в любом американском городе таких же размеров. Правда, нет ли, не знаю. Жирность молока и деньги — вот две сути, одна материальная, другая абстрактная, жизни и в большом городе, и в сельском районе. Когда я был ребенком, в Гамильтоне, где мы в ту пору жили, одной секте принадлежал большой участок земли в самом центре города. На этом участке стояла и церковь, но вскоре владельцы участка сообразили, что земля под церковью пропадает зря, церковь в два счета поставили на катки и передвинули чуть не на милю от центра. Правда, теперь, когда суперфосфат рассыпают самолетами, есть надежда, что какой-нибудь вдохновенный поэт напишет такие стихи, которые научат людей видеть в земле не источник дохода, а прекрасную Данаю, принимающую дождь с небес, этого deus ex machina [13], который оплодотворит истощенную почву и дарует ей сказочное плодородие. Будем надеяться; но до той поры не станем бросать камень в тех из нас, кому пока в это что-то не верится.
На Кембриджской дороге было холодно и тихо, во всем чувствовалась поздняя осень с характерными для здешних мест длинными космами слоистого тумана и стелющимися дымами из труб. Вдали за выгоном, в просвете между оградами, мелькнул уголок молочной фермы, когда-то принадлежавшей моему дяде. По праздникам мы всей семьей ездили к нему, набиваясь вшестером в повозку. Если дело было летом, тетя, дядина жена, накрывала к обеду в саду на длинном дощатом столе под развесистой старой сливой. Подавали обычно жареную курицу в хлебном соусе, с горошком и молодым картофелем и фруктовый салат со взбитыми сливками. После обеда взрослые надевали широкополые шляпы от солнца и играли в крокет, со стуком катая по жаркой площадке красивые разноцветные шары, а мы, старшие дети, отправлялись осматривать ферму: раскаленный, источающий странные запахи птичий двор, по которому расхаживали куры, наседки с цыплятами, а среди всех — петух в ярком красно-зелено-бронзовом оперении, а за оградой — ровный выгон, он тянулся до оврага, по дну которого бежал ручей, там можно было купаться и лежать на берегу под ивами, там росли папоротники, жесткие травы, тое-тое и чайное дерево и было много птиц. Дядя мой, высокий чернобородый красавец мужчина, выходец из Корнуолла, к нам в город и зимой и летом приезжал в черном тесном костюме и в черном котелке с очень узкими полями Он был неизменно бодр, весел и жизнерадостен, несмотря на почти полную глухоту, и имел на редкость покладистый характер — помню, я еще в детстве со смущением замечал, как командует и помыкает им жена. Тетя всем своим видом показывала, что мужчины — существа низменные и грубые, только и годятся, что работать на ферме, а в доме от них одни неудобства; я же был еще слишком юн, мне и в голову не приходило, что дядя мог бы облегчить положение, если бы взял кое в чем пример со своего петуха. После войны, когда цены на землю были особенно высоки, дядя продал ферму. Все тогда так ловчили, и в результате вдруг, можно сказать — в одночасье, население, кормящееся на землях Уайкато, практически удвоилось: одни покупали фермы и поселялись на земле, другие переезжали в города и пригороды и существовали на проценты, выплачиваемые покупателями. Прожив несколько лет в пригородной скуке, которую не могли развеять ни кегельбан, ни газеты, ни кино, ни романы из библиотеки, ни радиопередачи, мой дядя умер посреди асфальтовой пустыни у себя в доме, заваленном чуть не до потолка всевозможным дорогостоящим барахлом, которое приобретала, разумеется, тетушка. Это было чудовищно — казалось, что попал в жилище первобытного дикаря, чья слабость к разноцветным бусам дошла до катастрофической крайности.
А может быть, мне только показалось, будто я увидел уголок дядиной фермы. Немудрено, ведь чуть не сорок лет прошло. Дневной свет угасал, еще через несколько минут окончательно стемнело, а память и воображение продолжали работать, обгоняя рейсовый автобус. Кембридж, парк Домэйн, окруженный вековыми английскими деревьями, пруд в овраге, не слишком живописный, но с лебедями; в отдалении — холмы. Дорога долго идет берегом реки Уайкато, а потом сворачивает в широкую и почему-то не населенную долину Хинуэра — легко верится, что когда-то река текла по ней и впадала в залив Хаураки, она и теперь потекла бы этим путем, стоит только немного повыше поднять уровень воды в озере Карапиро. Выбравшись из долины, автобус снова едет по плоскогорью, но вскоре дорога начинает забирать вверх к перевалу через Каймаи. Подростком я изъездил эти места на велосипеде. Сначала я долго хранил верность дядиной ферме и каждый свободный от школы день проводил у него, добираясь иногда на попутной телеге, а нет, так и пешком, за шесть или семь миль. И всегда без охоты возвращался домой, а родителям говорил, что вырасту и непременно буду фермером. Но когда я перешел в классы верхней ступени, субботы у меня оказались заняты школьными матчами и состязаниями, а по воскресеньям я тоже не мог ездить на ферму, так как должен был ходить в церковь и в воскресную школу. И постепенно мои поездки к дяде прекратились. Теперь в выходные дни я предпочитал с кем-нибудь из товарищей доехать до Те-Ароха, откуда можно было взобраться на гору, или же мы ехали на велосипедах в противоположную сторону, перебирались через реку Уайпа и, запрятав велосипеды в кустах, карабкались на вершину Пиронджа. Помню, один раз мы проезжали на велосипедах мимо дядиной фермы, но даже не задержались, чтобы бросить на нее взгляд. В те дни замысел плотины еще только рождался, мы отыскали заводь с отлогим песчаным бережком, где можно было купаться, а дальше, всего в нескольких ярдах, мимо, бешено бурля, неслась река, не дай бог — затянет. Я до страсти увлекся этими поездками. Меня манили возвышенные, отдаленные места, и я, бывало, просто задыхался от бешенства и отчаяния, если запланированное путешествие срывалось из-за дурной погоды или родительского запрета. Рискуя получить от отца трепку за строптивость, я отказывался от других развлечений, которые мне предлагались взамен запрещенного. Разумеется, такое поведение объяснялось переходным возрастом. Сам того не сознавая, я, как из кокона, рвался в это время на волю из отчего дома и родного городка и неведомо для самого себя искал что-то или кого-то, какую-то точку, которую, наверное, готово было угадать мое нутро, но совершенно не знали еще ни сердце, ни голова. Удивительно, что мне ничего не подсказало мое страстное стремление в горы. Неподалеку от Таумарунуи, меньше чем в ста милях, мой младший дядя расчистил себе участок земли и устроил овцеводческую ферму. Он был всего пятнадцатью годами старше меня, гостил у нас редко и всегда привозил в мешке половину бараньей туши, разделанную надвое. Прочую его поклажу составляла котомка пикау, закинутая на плечи, и моя мать баранину, правда, принять не отказывалась, но ругала его за то, что он осмелился появиться среди порядочных людей в таком виде — как настоящий бродяга. Этот мой дядя был небольшого роста, широкоплечий, узкобедрый, у него была нежная кожа, четкие черты лица и голубые скандинавские глаза, зоркие, всматривающиеся. Он отличался немногословием и, как и другой мой дядя, хотя и не связанный с ним кровным родством, плохо слышал. Однажды, уезжая, он захватил с собой на ферму моего брата, тот прогостил у него несколько недель и по возвращении совершенно очаровал меня рассказами о жизни у дяди. И однако же, когда в другой раз дядя пригласил с собой меня, я отказался. Одна из моих сестер к этому времени побывала у другого нашего родственника в Кинг-кантри, еще дальше в горах, она прожила там чуть не полгода, присылала домой восторженные письма, писала, что не хочет возвращаться, и вкладывала в конверты фотографии, от которых у меня начинали течь слюнки и зависть точила сердце — и все-таки я еще не понимал, что мне нужно, и не воспользовался дядиным приглашением. Как-то во время одинокой велосипедной поездки я мог по пути в Таранаки через долину Авакино заехать к нему и даже погостить дня два — мог бы, но не заехал. В конце-то концов я все же открыл для себя дядину ферму, я об этом еще расскажу, но почему это открытие все время откладывалось и состоялось так поздно, остается для меня и по сей день неразгаданной тайной.