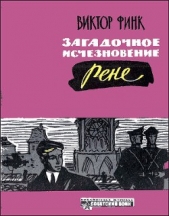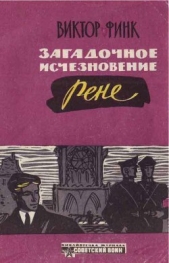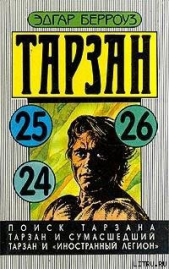Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания
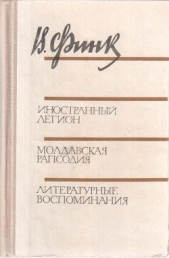
Иностранный легион. Молдавская рапсодия. Литературные воспоминания читать книгу онлайн
В повести "Иностранный легион" один из старейших советских писателей Виктор Финк рассказывает о событиях первой мировой войны, в которой он участвовал, находясь в рядах Иностранного легиона. Образы его боевых товарищей, эпизоды сражений, быт солдат - все это описано автором с глубоким пониманием сложной военной обстановки тех лет. Повесть проникнута чувством пролетарской солидарности трудящихся всего мира. "Молдавская рапсодия" - это страница детства и юности лирического героя, украинская дореволюционная деревня, Молдавия и затем, уже после Октябрьской революции, - Бессарабия. Главные герои этой повести - революционные деятели, вышедшие из народных масс, люди с интересными и значительными судьбами, яркими характерами. Большой интерес представляют для читателя и "Литературные воспоминания". Живо и правдиво рисует В.Финк портреты многих писателей, с которыми был хорошо знаком. В их числе В.Арсеньев, А.Макаренко, Поль Вайян-Кутюрье, Жан-Ришар Блок, Фридрих Вольф
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Об одном из них, знаменитом романисте Д., я вспомнил в Валенсии в результате случайной ошибки.
Этот Д. вышел из первой мировой войны и написал о ней немало волнующих страниц.
В двадцатых годах он приезжал в Ленинград, где мы и познакомились. По тем временам поездка в СССР была демонстрацией политической симпатии и считалась к тому же чем-то вроде путешествия на Северный полюс на собаках.
Д. еще не достиг т.огда большой славы, но все же был известен и считался писателем передовым.
Потом он выдвинулся. Потом его провели в Академию, он стал так называемым «бессмертным».
После Ленинграда я его не видел. Но в Париже, незадолго до отъезда в Испанию, мне попала в руки его фотография. Человек стал неузнаваем. Он был далеко еще не стар, но что-то появилось в нем ужасно стариковское. Быть может, наглухо застегнутое черное платье старило его,, а может быть, елейность? У него в лице появилась какая-то счастливая елейность, только взглянете—и сразу воскресают перед вами великие старые ханжи, имена которых обессмертила литература.
И вот в Валенсии я захожу в магазин граммофонных пластинок и сразу наталкиваюсь на господина в черном с удивительно елейной физиономией. Она показалась мне знакомой. Присматриваюсь — да ведь это он, это Д., «бессмертный»! Приехал-таки! Чудесно!
Я уже думал подойти, напомнить ему о нашем знакомстве в Ленинграде, но в ту же минуту сообразил, что если бы Д. действительно находился в Валенсии, да еще с намерением участвовать в работах конгресса, я бы узнал об этом не в магазине пластинок.
Едва эта здравая мысль мелькнула у меня в голове, как я убедился в своей ошибке: незнакомец заговорил с продавцом по-испански, но с отчаянным английским акцентом. Продавец ничего не мог понять и попытался заговорить по-французски. Но незнакомец не знал этого языка.
Значит, я ошибся.
Через несколько дней, купив на улице парижскую газету, я нашел в ней статью Д. с нападками на Народный фронт. Мне стало очень тошно. Однако эта статейка, сам не понимаю почему, толкнула мою фантазию в неожиданную сторону.
Я внезапно представил себе — и весьма отчетливо — удивительную, прямо-таки невообразимую картину: будто мы встретились с Д. с глазу на глаз и я читаю ему мораль.
«Конечно, — говорю я, — буржуазия вас облагодетельствовала, она дала вам материальное благополучие, почести, даже звание «бессмертного». Однако это не обязывает вас к столь унизительным формам угодничества и пресмыкательства, как писание статеек против Народного фронта. Этого вы могли и не делать. Но, по-видимому, вам трудно совладать с вашим проданным сердцем. Оно хочет служить, оно хочет ходить на задних лапках. Это оно, только оно, вынудило вас, талантливого, некогда передового писателя, выступить в газете против передовых идей, которым вы сами служили совсем еще не так давно».
Я даже прибавил, что так бывает всегда: раб несчастный целует хозяину руку и делает это по принуждению; раб счастливый — другую часть тела, и притом добровольно.
Конечно, он взъелся:
«Как вы смеете так разговаривать со мной?! Я член Французской Академии. Я бессмертный!»
Я тоже не стал молчать. Я сказал ему, что, вероятно, он сам больше себя уважал, когда не мечтал о «бессмертии» и служил идеям прогресса. Я напомнил ему, что в Академии больше колониальных генералов, чем писателей.
«Вы думаете?» — огрызнулся Д.
«А вы не думаете? Вы станете отрицать, что в великосветских гостиных, где обычно происходит выдвижение кандидатов, писатель, хотя бы талантливый, подобно вам, может получить голоса, только если понравится колониальным генералам, вдовствующим герцогиням и реакционным политикам? Академия всегда была цитаделью мировой реакции. Сначала прусский генеральный штаб, а потом Французская Академия с ее «бессмертными»...»
Я так увлекся этой немыслимой беседой, что в конце концов ударил его в самое чувствительное место.
«Вы были молоды, и вы прошли войну! — крикнул я. — Вы хорошо знаете, что это за кушанье. Вы хорошо его описали. Неужели же у вас нет потребности протестовать против новой угрозы войны? Неужели у вас не болит душа, если не за Испанию, то хотя бы зл вашу Францию, за ее судьбу, за ее молодое поколение?»
И тут, представьте себе, я вижу, мой Д. крайне смутился. Прошла минута, другая, и вот он заверяет меня в своем сочувствии испанскому народу, восторгается подвигом Интернациональных бригад, высоко чтит тех, кто собрался на конгресс. Мысленно он с нами.
«Почему же только мысленно? — восклицаю я.— Почему не на деле? Неужели вы боитесь? Неужели вы не знаете, что во Франции писатель свободен в своих взглядах и в своем творчестве? Уверяю вас! Вот попробуйте, и вы убедитесь в этом...»
И тут я рассказал ему историю одного советского доктора, который привил себе чуму, чтобы на самом себе доказать эффективность открытой им противочумной сыворотки.
«Вот как поступают люди уверенньПП — сказал я. — А вы боитесь! Чего же вы боитесь? Ведь вы бессмертны!»
, А тот пробормотал: «На бессмертных никакая сыворотка не действует».
И в эту минуту образ его растаял.
Но надо сказать несколько слов и о тех писателях, которые приехали.
Некоторые из них все время пытались убедить нас, что конгресс обречен на провал, что нашего голоса
никто не услышит и уж конечно никто с ним не посчитается, что испанский народ ведет слишком неравную борьбу, что это, по французской поговорке, борьба глиняного горшка с чугунным, результат нетрудно предвидеть и т. д. и т. д.
Они каркали.
На некоторых советских делегатов эти коллеги производили впечатление агентов, подосланных со специальной целью — сорвать конгресс.
Думаю, что это не так. Думаю, что это были честные интеллигенты.
Почему же они каркали? Да потому, что были изъедены скептицизмом, потому что ни во что доброе не верили, потому что не знали, как бороться, и стоит ли бороться, и чего надо держаться в борьбе, и чем можно жертвовать. Они не были борцами.
Почёму же они приехали?
Потому, что они интеллигенты, и не хотели фашизма, и тревожились за судьбу Европы, у них душа была не на месте.
Незадолго до выезда в Испанию я встретил в Париже одного довольно видного французского писателя. Подчеркну: он считался передовым. Мы разговорились о Всемирной выставке, которая тогда происходила в Париже. Мой собеседник восторженно отозвался о Советском павильоне. Тогда я предложил этому писателю высказаться на страницах печати. Он согласился, однако сделал оговорку: «Вот я еще только пойду . посмотрю Германский павильон и напишу об обоих сразу. Я хочу сравнить...»
Видимо прочитав у меня на лице некоторое недоумение, он пояснил: «Надо быть объективным и беспристрастным».
Я быстро попрощался и ушел: мне не о чем было с ним говорить.
Советский и Германский павильоны стояли как раз друг против друга. Один венчала известная скульптурная группа, изображающая рабочего и колхозницу,— символ молодого государства, стремящегося вперед и выше. На другом торчал огромный горбоносый орел со свастикой в хищном клюве.
Две силы, боровшиеся за завтрашний день .мира, Европы, Франции, сошлись на этой площади лицом к
лицу. Казалось бы, все так ясно! Казалось бы, французскому писателю все должно было быть особенно ясно: для германских фашистов французы были «низшей расой». Народ, который дал энциклопедистов, который совершил Великую революцию, который обогатил человечество гением Лавуазье, Бальзака, Пастера, Блерио и многих других, народ, который своими руками создал такую чудесную страну, как Франция, — этот народ германские фашисты объявили народом «негроидов», «чумой белой расы» и отрицали за ним право на существование.
А французский писатель считал, что не может выразить своего мнения о Советском павильоне, пока не увидит, что делается в павильоне германского фашизма. Если окажется, что бумага, на которой напечатана «Моя борьба» Гитлера, лучше той, на которой изданы учебники для советских народов, впервые получивших доступ к культуре, то он засчитает одно очко в пользу германского фашизма: «Надо быть объективным и беспристрастным».