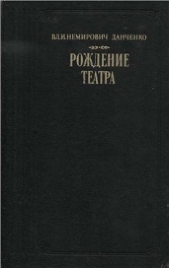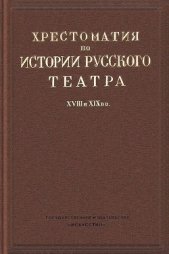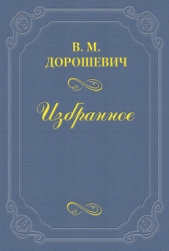Профессия: театральный критик
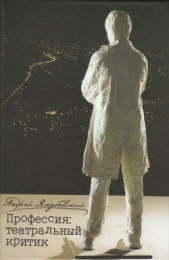
Профессия: театральный критик читать книгу онлайн
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто — любуясь смелостью режиссера А. Пономарева, чьи "деформированные", косноязычные актеры не то что не умеют — отказываются играть этот "пустенький водевильчик" Н. Евреинова, тем самым, видимо, по мысли критика, демонстрируя свою ушедшую в глубины души преданность истинной красоте и не поддающуюся прилюдному воплощению высоту творческих идеалов (это — все тот же М. Смоляницкий).
Признаюсь, я пасую перед такого рода критикой, ощущаю себя "в минусе, в тупике, в пассиве" и даже в прогаре. Я читаю в статье маститого, так сказать, критика А. Соколянского: "В спектакле М. Мокеева обнаруживается "вместо "полифонии" — темное плескание холодного джаза", — и не "всасываю", как говаривал один из персонажей "Мурлин Мурло". Читаю заглавие другой его работы: "Театр правого полушария. Статья первая. Зона и башня" — и снова в полном отпаде. Заглядываю в третью и вижу здесь тесно поставленные рядом на весьма ограниченном пространстве имена Маканина, Васильева, Гинкаса, Някрошюса, Юрского, Трушкина, Виктюка, Фоменко, Б. Слейда и У. Шекспира и — названия, названия, названия — от печальной памяти "Есенин" до недостижимого и трагического "Сталкера"... И сознаю, что это очередной "уход в реальность культуры" из просто реальности, своего рода "постмодернистский" диалог с первой ради того, чтобы заглушить голос второй, что это, с позволения сказать, такое критическое "консоме" для испытанного гурмана театральной мысли, приготовленное для собственного своего удовольствия, как бывает— мы только что это видели — "театр для себя"...
Они — упиваются эстетизмом и со всем возможным доброжелательным расположением духа готовы оправдать и общие его установки, и подчас самые причудливые его проявления прежде всего потому, что, как и большинство театральных практиков этого типа, обязаны "большей частью своего душевного опыта" переживаниям, "взятым из литературы, кино и так далее" (Д. Годер). Отчего я искренне им завидую и безумно их жалею. Упиваясь эстетизмом и радуясь его цветению, они (перефразирую тут Лидию Гинзбург) никогда в своем внутреннем опыте не пережили, что такое театр, то есть чем может быть для человека театр. Потому они, конечно же, строго говоря, не представляют точным образом пределов театрального творчества, не осознают до конца основ и рамок своей профессии.
Но это так — к слову. И не о лицах, разумеется, а о поколении, рядом с представителями которого, честно говоря, я частенько чувствую себя весьма несовременным и даже несвоевременным...
Любопытно, что Ортега-и-Гассет видел в "классическом" эстетизме весьма важную, если не решающую, особенность — стремление "избегать всякого рода фальши" и в этой связи отмечал его влечение к "тщательному исполнительскому мастерству". Суждения самых неистовых ревнителей современного эстетизма пестрят определениями "косноязычный", "деформированный", "разрушенный", "ненайденность языка", "ликвидированная целостность" и тому подобное. Один из адептов эстетизма пишет о том, что в таком театре покончено с "образами" (читай — с человеком) и с "ощущениями" (читай — с сочувствием человеку), а остается одно только смакование "приспособлений" и "приемов". Другой признанный классик направления идет дальше и утверждает, что "основой драматургии этого" (то есть эстетского. — А. Я.) типа "является не сюжет, не интрига, не авторская трактовка их, не смакование остраненных театральных приемов и фактур, но (внимание! — А. Я.) переживание моментальной и медлительной смены направлений сценической ориентации почти на операционном уровне..." (Д. Пригов).
Однако неужели из современного эстетизма без остатка выветрились "исполнительское мастерство" и гармония, влечение к прекрасному и сценическое красноречие? Неужели из него вместе с "образами" исчезли чувственность, страстность, энергетика и в образовавшемся распаде и развале осталось только пресловутое "переживание... смены направлений сценической ориентации почти на операционном уровне"?
Нет, разумеется. В нем встречаются и "чувственность", и "страстность", и "энергетика", и даже — как венец и высшее оправдание всего прочего — "красота". Они обнаруживаются, например, в лучшие моменты постановок Аллы Сигаловой, одаренной танцовщицы и балетмейстера. В одном из интервью основательницы "Независимой труппы" я и обнаружил перечень всех этих весьма ценных и крайне желанных для подлинного эстета качеств. Именно их сочетание и производит впечатление на публику спектаклей Сигаловой.
Мне интересно то, что делает Сигалова. Уже по одному тому, что художник совершил свой выбор и идет в творчестве своей дорогой. Тут-то, однако, и возникают существенные вопросы. Каковы принципиальные установки и творческие возможности художника? Каким именно образом его искусство уточняет пределы эстетизма конца XX столетия и его проявления в условиях "отечественного интерьера"?
Первые спектакли Сигаловой были встречены не просто тепло, но восторженно, — так обычно приветствуют предвестников обновления. Однако же в подтексте суждений неизменно звучало удивление: такая молодая и такая талантливая, и удовлетворение особого рода— "это спектакль, спору нет" (В. Гаевский). На второй и третий план, в некое "послевкусие" спектаклей, оттеснялись конкретные соображения о "неврастеничности" и "декадентстве", об известной эклектике хореографического текста, далеко не всегда органически ложившегося на музыку и вступавшего подчас в весьма натянутые отношения со звучащим словом.
Особенно заметно все это стало в постановке "Саломеи", в которую зачем-то оказались включены фрагменты набоковской "Лолиты" и стихи Н. Гумилева. Здесь величественные григорианские хоралы сменялись скачущими интонациями кэкуока, а эти последние — партитой Баха; здесь рапидно-замедленные проходы прехорошенькой Саломеи-Лолиты со ставшим общим местом в спектаклях Сигаловой символом чистоты — бесконечно длинным белоснежным шлейфом чередовались со своего рода "данс-макабр"... И все это не просто так, но с ощутимой претензией на метафизичность, на дионисийство.
Однако началось это еще в "Отелло", в котором музыка, пение, танец и слово подчас никак не желали сливаться воедино, сплавляться в органический синтез ради полноты воплощения "этюда о страсти" (так услышал тему постановки В. Гаевский), во имя торжества упомянутой выше "красоты". Может быть, в этом спектакле в чисто техническом отношении и были освоены какие-то важные особенности "драмыбалета", к которой, очевидно, тяготеет А. Сигалова. Здесь в самом деле "все играло" — "локти и ладони", "галстуки и пиджаки". Но вместе с тем именно в тех эпизодах, которые были отмечены акцентированной эмоциональностью, проявлялись обедненность и однообразие хореографического языка при, казалось бы, вполне достаточном лексическом запасе. Можно сказать, что создатели спектакля знали много разных слов и даже словосочетаний, но тем не менее оказались крайне ограничены в возможностях самовыражения, в коммуникации со зрителем, в передаче ему информации по столь важным для них эстетическим каналам. Когда Дездемона, извините за прямоту выражения, "сучит" ногами, изображая страсть, когда любовное чувство пытаются выразить с помощью многократного повторения однообразного "рычагового" движения сомкнутых кистей рук, когда отчаяние и решимость уйти из жизни передаются энергичным "трясением" головой — послание к зрителю не доходит или обессмысливается. Это заставляет вспомнить все того же Генри Миллера, как-то заметившего: "Я не верю в слова... но верю в язык... Отделенные от языка слова становятся мертвой шелухой, и из них не извлечь тайны..."