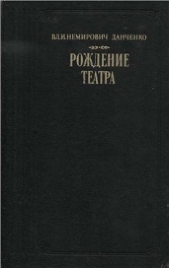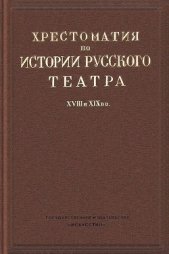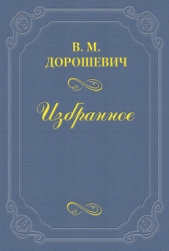Профессия: театральный критик
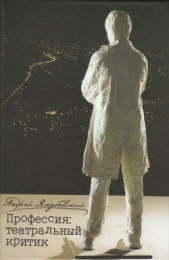
Профессия: театральный критик читать книгу онлайн
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы живем, как уже сказано, в "посткоммунистической" стране, в "постидеологическую" эпоху и находимся под сильнейшим воздействием "постмодернизма". Наши художники работают в условиях невиданного развития массовых коммуникаций и наступления массовой же культуры, в атмосфере повсеместной и повальной коммерциализации. Потому, как мне кажется, попытка установить тождество между эстетизмом конца XIX столетия или эстетизмом 20—30-х годов и аналогичными усилиями наших художников была бы неплодотворна и даже бессмысленна. Такая попытка была бы подобна безнадежным усилиям поставить знак равенства, скажем, между общепризнанным "дендизмом", изысканным обликом и утонченным творчеством Оскара Уайльда и, на мой взгляд, в высшей степени безвкусным, а временами, я бы сказал, — пугающе-вульгарным сценическим обличьем, поведением и "искусством", например, пользующегося популярностью в определенных кругах танцовщика, а теперь еще и певца Бориса Моисеева...
И дело тут не в том, что Моисеев — не Уайльд, что не нуждается в доказательствах. И не в банальностях типа: "каждому времени — свой эстетизм" — кстати, не так уж далеких от истины. Дело, скорее всего, в труднопонимаемом и труднопередаваемом своеобразии — скажу так — именно отечественного и именно сегодняшнего нашего эстетизма, на который — остается полагать только это — отбрасывает густую тень и общая ситуация нашей жизни, социальной и художественной, и совершенно особенный и причудливый колорит "отечественного интерьера", в котором эта жизнь протекает.
Признавая, что эстетизм не создал заметных шедевров и вызывает устойчивое "раздражение в массе", Ортега не без юмора писал, что с молодыми его сторонниками "можно сделать одно из двух: расстрелять или попробовать понять". Сам он, естественно, стремится "понять смысл новых художественных тенденций, что, конечно, предполагает априорно доброжелательное расположение духа". Как мне хотелось бы присоединиться к этому доброжелательству Ортеги! Не получается! Не получается по очень простой причине.
Ортега воспринимал эстетизм как "опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире", относился к нему как к детищу "зарождающейся реальности, которая только начинает свой путь". Через десять с небольшим лет Генри Миллер писал в своем "Размышлении о писательстве" о "радости исчезновения былых норм". Автор "Тропика рака" считал, что "распад — такая же чудесная и творчески заманчивая манифестация жизни, как и ее цветение". Ортега и Миллер были, судя по всему, куда счастливее нас: перед ними открывалась многообещающая перспектива XX века, в котором, как они надеялись, "новое искусство" окажется способным дать не одному художнику "вдохновляющий импульс". С тех легендарных пор время состарилось. XX век положил начало "цивилизации Освенцима". Серия катаклизмов и крушений, через которые пришлось пройти человечеству, обнаружила в жизни и в искусстве много такого, о чем и не помышляли эстеты и модернисты 20—30-х годов. Практика же нашего отечественного эстетизма и вовсе не дает серьезных оснований для оптимистического восприятия "распада" как "чудесной и творчески заманчивой манифестации жизни".
Какая уж тут может быть радость, когда исчезают, строго говоря, традиции, под знаком которых складывалось своеобразие великой русской культуры. Какие же тут возможны чудесные и заманчивые манифестации, когда отвратительна жизнь, так или иначе в этих манифестациях звучащая...
Приобщение к—рискну сказать— западному типу художественного мышления совершается самым поспешным и поверхностным образом. Кажущаяся раскрепощенность сегодняшнего театрального творчества— увы! — вовсе не означает, что мы присутствуем при обретении художниками сцены долгожданной и подлинной внутренней свободы. А ведь, пожалуй, она одна только и могла бы способствовать постепенной выработке "нового" театрального "зрения" и в существенной степени помочь обновлению как самого театра, так и нашего представления о нем.
Напротив, то, что происходит сегодня в нашем театральном искусстве, в значительной своей части может быть определено понятием ложной художественной активности и выражает скорее зависимость наших мастеров от отработанных западной театральной культурой моделей и схем. Это влечет за собой по крайней мере два последствия, обнаружение которых, возможно, сделает меня мишенью для нападок как непосредственно-эмоциональной, так и "высоко"-теоретической критики.
Во-первых, вне зависимости от намерений самих художников практика их творчества все чаще заставляет вспоминать один булгаковский пассаж: "...оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно... урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности марш", и слова просились на эту музыку "какие-то неприличные крайне". Во-вторых, такая именно практика отечественного эстетизма нередко заставляет задуматься о возможностях и пределах самого этого явления — по крайней мере в конце завершающегося столетия, в условиях, разительно отличающихся от его начала, и в пределах "отечественного интерьера".
Нет-нет, расстреливать, конечно же, никого не следует. Но и доброжелательному расположению духа взяться, к сожалению, неоткуда...
Вот один из наших признанных молодых режиссеров-"аван-гардистов" Михаил Мокеев ставит "Лес" А. Н. Островского. "На материале Островского" — обратите внимание, как сказано: "на материале"! — режиссер обещает совершить некую "внутреннюю работу", собирается обрести "метод, язык". Какую же именно работу, какой же именно метод, язык? Оказывается, М. Мокеев намеревается "въехать" благодаря классику "в... стилистику постмодерна". И въезжает наиоригинальнейшим образом.
Он превращает постановку в поток аттракционов без всякой попытки какого-либо их монтажа, в хаос цитат и заимствований из самых разных театральных эпох и культурных пластов. Несчастливцев, загримированный под гривастого льва, Счастливцев, явленный в виде коверного "рыжего", фантомные персонажи из фильмов ужасов вперемежку со спортивными бодрячками, будто сошедшими с советского киноэкрана 30—40-х годов, и все это в сопровождении джаз-оркестра Леонида Утесова, в вычурно организованной пластике и откровенно надуманных мизансценах.
Монтаж потребовал бы от режиссера какой-то логики, отбора, системы. Но самая очевидная особенность постановки Мокеева именно в отсутствии оных: режиссерская фантазия изливается здесь вне пределов какого-либо внятного смысла, вне каких-либо ограничений и запретов, Замечено, что сегодняшний театр стремится связать себя скорее "с пространством культуры, чем с пространством жизни", что "в этом уходе е реальность культуры" проявляется "естественное желание оградить себя от жизни" (Арк. Островский). Положим, так оно и есть, хотя, откровенно сказать, цитатный характер постмодерна далеко не всегда означает полноправный и, главное, плодотворный диалог с иными, в том числе — прошлыми, культурами. Вот и на этот раз способный режиссер не столько стремится открыть новый и неожиданный смысл культурного опыта, сколько занимается непродуктивным "присвоением" этого опыта путем его огульного "отрицания". За "диалогом" культур, за игрой с "контекстом" здесь постоянно ощущается безразличие ко всему, кроме самоцельной игры фантазии, холодное любопытство к сопряжению всего со всем в какой-то гулкой и обесцвеченной пустоте, где нет места живому человеку и где правит бал какое-то странное театральное "берн-штейнианство", согласно которому, как известно, движение есть все, а цель, естественно, — ничто... И чем ярче фантазия режиссера и чем самоотверженнее актеры выполняют его задания — тем острее будоражил мозг вопрос: может ли театр жить только театром, в самом себе находить и цель свою, и удовлетворение?