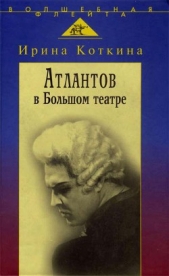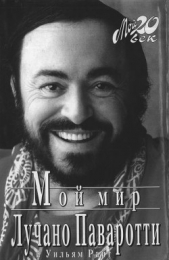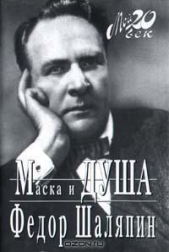Записки оперного певца
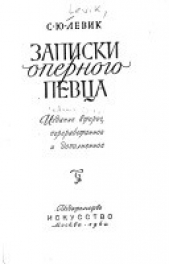
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С чего начинается оперный артист? Естественно — с голоса. А голос у Ершова был воистину выдающийся, хотя и с одним немаловажным дефектом. Прежде всего этот голос был беспределен по диапазону, причем его мощь и металлическая звонкость ни в какой мере не зависели от тесситуры. По поводу же силы голоса позволю себе начать с оговорки.
Итальянским терминам tenore di forza — тенор от силы и tenore di grazie-—тенор от изящества (от легкости) мы почему-то противопоставляем термины: драматический тенор и лирический тенор, как будто у Ленского или Вертера нет драматических переживаний, а у Сабинина или у Рауля нет лирических. Исполнитель драматических и характерных партий, Ершов был тенором сильным, героическим и в то же время в значительной мере тенором легким, изящным.
<Стр. 354>
Общеизвестно, что так называемые сильные тенора с трудом ворочают махины своих голосов и с еще большим, хотя и другого характера, трудом одолевают лирические или «грациозные» места своих партий, в большинстве случаев не без изъянов справляясь с техническими заданиями. Ершов же в первые пятнадцать-двадцать лет оперной деятельности с почти неповторимой легкостью побеждал любые трудности и доказывал блестящее освоение им первоклассной вокальной школы и всей необходимой техники вокального искусства.
Только основной тембр ершовского голоса был небезупречен: он был зажатым, горловым, являясь, по существу, единственным уязвимым компонентом ершовского искусства в целом.
Учителями Ершова были один из крупнейших русских педагогов, неоднократно упоминавшийся Станислав Иванович Габель и знаменитый итальянский педагог Эрнесто Росси. Ретроспективно трудно разобраться, была ли зажатость ершовского тембра природной, сознательно игнорируемой мудрыми педагогами, которые (как в свое время Эверарди) опасались «снятием горла» испортить голос певца, или же она была, наоборот, неосторожно привитой. Об опасности трудных экспериментов над «снятием горла» я неоднократно слышал из уст многих выдающихся певцов. Полагаю, что такова была ершовская природа, и в пределах предоставляемых ею возможностей великий артист отлично знал, что делает. Придя к такому убеждению я был счастлив, когда узнал, что первоклассный вокалист, чудесный артист и опытный педагог И. В. Тартаков после многолетних наблюдений за своим соратником высказывался в том смысле, что Ершов «поет правильно».
С недостатками основного тембра, как уже упоминалось в связи с Ансельми и другими, выдающиеся певцы умеют бороться: они обладают способностью придавать тембру внутреннее выражение, пользоваться палитрой звуковых красок, заставить свой голос служить каждому движению своей души. И так же, как никогда не знал успокоенности творческий дух Ершова, тембры его голоса беспокоили, будоражили слушателя не меньше, чем произносимые певцом слова или творимая им сценическая акция. А что может выражать чувства лучше, чем тембр голоса?
Диапазон ершовских тембров был так же беспределен, как беспредельно разнообразны были его чувства. Поэтому
<Стр. 355>
так нежно-поэтично звучал в его исполнении романс Иоанна Лейденского («Пророк»), так мрачно-злобно «Полководец» Мусоргского, так презрительно-издевательски песня Хлопуши («Орлиный бунт» А. Ф. Пащенко), так победно-радостно, восторженно-ликующе восклицания Зигмунда и Зигфрида, так страдальчески вопли Гришки Кутерьмы («Сказание о граде Китеже»), так отчаянно-испуганно, страшно для него самого и устрашающе для других — последняя реплика Ирода («Саломея») — «Убейте эту женщину», так лукаво-иносказательно куплеты о Клейнзаке («Сказки Гофмана»), так трогательно и в то же время солнечно-вдохновенно— дуэт с Зиглиндой («Валькирия»).
Умение Ершова тембровыми красками, порой молниеносными, зарницеподобными бликами буквально выворачивать наизнанку всю душу своего персонажа, все его страдания и затаенные надежды, любовь и ненависть, радость и горе, притворство и искренность, великодушие и мелочность — было неисчерпаемо. И думается, в первую очередь потому, что его музыкальное чутье вылавливало из музыки не только то, что лежало на поверхности, но и то, что звучало в ней где-то подспудно, что композитор обронил, может быть, случайно, бессознательно.
Язык звуков Ершов знал так же хорошо, как свой родной русский язык, и для передачи каждого звука у него находились нужные краски. Мне кажется, что любой иностранец, не знающий русского языка, должен был в вокально-сценической передаче Ершова понимать основной смысл или по крайней мере настроение каждой фразы.
За двадцать лет придирчивых наблюдений за Ершовым, при гипертрофированной требовательности к каждому его жесту, к иногда излишней подвижности, к порой почти кликушеским интонациям, я не поймал ни одной антимузыкальной интонации, ни одного антиритмичного жеста или мимического движения. Пение и пауза, жест и статика, вздох и взгляд — все это вибрировало не столько в такте музыки, сколько в ее духе. И все было романтично и театрально, бесконечно возвышенно и оптимистично.
* * *
Огромный узел музыкальных нервов, клокочущий родник вдохновенного ритма, классическая пластичность любого движения, статуарность мрамора и динамика бури, лава
<Стр. 356>
сверкающих интонаций, фонтан темперамента, буйное веселье и невыносимо щемящая скорбь... и больше всего необозримая русская песенная ширь — вот то, что неистребимо будет жить в моей памяти о Ершове! Но, боже мой, как мне долго не везло с познанием его!
Когда Ершов впервые в мое время приехал в Киев, я был в отъезде. Вернувшись, я прочитал в газетах несколько строк почти одинакового содержания: неприятный горловой голос, нечистая интонация, хотя артист недурно фразирует и не лишен темперамента. Примерно то же, хотя несколько подробнее я уже до того читал в петербургских газетах. Так же отзывались и друзья, которые побывали на его спектаклях: публика и рецензенты стоили друг друга...
Года через два мне довелось услышать «Гугенотов» с Ершовым в роли Рауля. Как и все, я тоже не принял действительно сильно зажатого горлового тембра, каких-то сомнительных по интонации верхних нот. Но мне стало очень жалко, что из-за этих досадных дефектов мало отмечается все остальное...
А что представляло собой это остальное? Прежде всего молодой Ершов был необычайно красив, но не красотой Бакланова, Тартакова, Орлова-Чужбинина, Аполлонского или других артистов-красавцев — совсем не этой внешней красотой, хотя налицо была и шапка чудесных черных волос, и высокий лоб, и замечательные, всегда светящиеся глаза, обычно характеризующие человеческую красоту.
Нет, Ершов сверкал духовной красотой. Если на чьем-нибудь челе можно действительно увидеть печать гения, то эта печать ярко горела на челе молодого Ершова.
Другим несомненным достоинством Ершова была его пластичность. Его походка, взмах руки, вернее — ее взлеты, повороты головы, особенно повороты всего корпуса всегда были необыкновенно красивы, изящны. И все это было от героической мужественности, а не от женственности.
Третьей особенностью Ершова был ритмический динамизм всего его существа. Наблюдая за ним даже в моменты его пауз, мы ощущали ритмическую пульсацию жизни созданного образа, совсем как в пении Медведева.
Бессознательно все это воспринимая, слушатель повышал требования к голосу: хотелось мощно красивого и обязательно гибкого голоса, между тем голос Ершова этими достоинствами не отличался.
<Стр. 357>
Абсолютного совершенства невозможно достигнуть ни в чем, не могут его достигнуть и певцы. В тех или иных «грехах» можно упрекнуть любого из лучших. Но в то время как искусство этих лучших обычно озаряет слушателей своими лучами с первой минуты встречи с ними, а дефекты обозначаются постепенно, у Ершова было наоборот: лучам его искусства нужно было продираться сквозь сырой туман его горлового тембра. Вот почему Ершова встречали, так сказать, «по одежде» и не сразу успевали его разглядеть. Особенно в такой партии, как Рауль, в которой привычно было прежде всего услышать сладкозвучие какого-нибудь соловья.