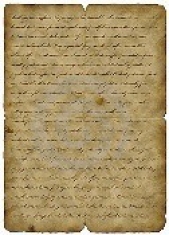Воспоминания об Александре Грине

Воспоминания об Александре Грине читать книгу онлайн
Александр Степанович Грин проработал в русской литературе четверть века. Он оставил после себя ро¬маны, повести, несколько сотен рассказов, стихи, басни, юморески.«Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей», — говорил он.Предвидение Грина сбылось. Он один из самых лю¬бимых писателей нашей молодежи. Праздничные, тре¬вожные, непримиримые к фальши книги его полны огромной и требовательно-строгой любви к людям.Грин — наш современник, друг, наставник, добрый советчик
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как- то заговорили мы о так называемых «чудаках». Вспомнили, конечно, Дон-Кихота, мистера Пикквика, князя Мышкина…
Грин, улыбаясь так, как он умел улыбаться, - снисходительно, сквозь густые, коротко подстриженные усы, - заявил:
- И охота вам делать из чудаков каких-то белых ворон, людей не от мира сего! Да ведь это же - основа основ, костяк, на котором держится вся рыхлая и податливая мякоть, составляющая массу так называемых средних, нормальных, уравновешенных людей.
Можно было не сомневаться в том, что и Грин принадлежал к этой славной компании чудаков, особого,
PAGE 215
российского пошиба, и, конечно, в самом тончайшем и изысканном смысле.
О его чудачествах и странных на первый взгляд поступках можно было бы рассказывать часами. Сейчас я не собираюсь этого делать, но считаю нужным заметить, что чудачество никогда не было для него чем-то надуманным, напускным, игрой, позой. Это шла у него от самого строя души - сложной и капризной.
Кое- кто считал Грина мистиком. Между тем он с едкой иронией относился к довольно обычным в те годы разговорам и суждениям о «таинственном», «сверхчувственном» в области человеческих представлений, от чего сильно попахивало поповством и мракобесием.
И вместе с тем у Грина были свои твердые убеждения, касающиеся всякого рода нераскрытых тайн природы.
- То, что вы называете «необыкновенным», - говорил он, - часто представляет собою не что иное, как самую подлинную действительность. И наоборот, действительность то и дело оборачивается настоящей фантастикой… Что может быть «таинственнее», то есть непонятнее, того, что ежеминутно происходит перед нашими глазами. Миллиард загадок! И как только мы решим какую-нибудь из них, это сейчас же выталкивает сотню новых загадочных явлений. Людская масса, ради своего спокойствия, старается об этом не думать и только «чудаки» и поэты, для которых закон не писан, иногда открывают нам глаза на то, что скрывается внутри явлений. В награду за это им достаются оплеухи…
Одно время в Петербурге ходил слух, будто Грин - просто-напросто полуграмотный матрос, не умеющий связать двух слов. А рассказы, которые он печатает, украдены им у какого-то капитана дальнего плавания, погибшего во время караблекрушения.
Особо «осведомленные» сплетники и фантазеры доходили даже до подробностей, рисуя картину, как во время этой катастрофы сам Грин спасается, привязав себя к большому сундуку, в котором находились рукописи капитана…
Слушая эти бредни, Александр Степанович только посвистывал и говорил с веселой усмешкой:
± ± ±
PAGE 216
- Можно подумать, что я делюсь своим гонораром с этими услужливыми болтунами. Благодаря их россказням мои книжки лучше покупают!
Впрочем, он знал себе цену и шел своей дорогой.
Грин меньше всего был хвастлив. Он сам честно, без всяких преувеличений, определял уровень своего таланта. Вернее сказать, даже преуменьшал его. Мне запомнилась его фраза:
- Я принадлежу к третьестепенным писателям, но среди них, кажется, нахожусь на первом месте.
Тут во имя справедливости следует напомнить, что в те годы в первой шеренге писателей (по степени их популярности) стояли Потапенко, Муйжель, Лазаревский и некоторые другие, о которых сейчас можно узнать только по комплектам старых журналов.
Однажды я услышал от Грина такое замечание:
- Пушкин прекрасно знал, что он гениален. Но у него было достаточно ума и осторожности, чтобы никому об этом не говорить. Люди еще не доросли до того, чтобы спокойно принимать такого рода заявления, - они слишком ограниченны и завистливы.
Если Грина спрашивали о наилучшем, по его мнению, способе литературного изложения, он неизменно отвечал:
- Ставьте своих героев в самые трудные и замысловатые положения, а потом заставляйте их выкарабкиваться. Только тогда они начнут у вас жить, действовать и говорить - интересно, поучительно, с открытой душой… Ведь лучше всего узнаешь человека, когда он в некотором смятении. Например, когда он участвует в драке, объясняется в любви, играет в карты или получает деньги…
На простодушный вопрос одного начинающего беллетриста: «Как научиться хорошо писать?» - Грин ответил далеко не просто:
- Тренируйте воображение… Лелейте мечты…
Для меня не представляло загадки, почему Грин довольно быстро сошелся со мной и что помогло тому, что наша дружба ни разу не была омрачена ни одной крупной ссорой.
* * *
PAGE 217
Мы ненавидели богатых и богатство, глубоко презирали мещан с их утиной психологией, высмеивали многочисленные недостатки тогдашней трусливой и серенькой интеллигенции.
Вместе с тем мы не имели оснований причислять себя к людям рабочего класса, хотя вместе с ними стояли у станков, знали, что такое выматывающий и отупляющий физический труд, ели с пролетариями из одной миски.
Мы оба стали литераторами не по наследству и не по воспитанию, а единственно только - по неистребимому душевному влечению. Без всякой рисовки можно было сказать, что писать для нас - значило жить, а жить - значило писать.
Еще нас сближало то, что в просторечии называется: «Они знают, почем фунт лиха!»
К характеристике наших отношений прибавлю, что нам очень часто удавалось отгадывать мысли друг друга и быстро договариваться в сложных обстоятельствах, несмотря на то что Грин был старше меня, опытнее и, прямо надо сказать, глубже понимал жизнь.
Из так называемых нравственных качеств, которые я имел возможность отметить у Грина, меня больше всего привлекали: доброта, врожденная и естественная деликатность и то, что мы понимаем под словом порядочность - душевная чистота.
Несмотря на свою нервную и вспыльчивую натуру, он никогда не был зачинщиком стычек и даже в сильно возбужденном состоянии часто отходил в сторону. И это вовсе не было признаком трусости, - в трусливой осторожности никто его упрекнуть не мог.
Я был свидетелем, когда, получив жестокое оскорбление, Грин сумел сдержать себя и, взвесив все обстоятельства, понял, что он сам дал серьезный повод для оскорбления, - в конце концов предложил мировую. Для такого поступка надо было иметь большое мужество и ясный ум.
Грина нельзя было назвать бессребреником. Но он ценил деньги главным образом за то, что они давали ему возможность доставлять людям какую-нибудь радость.
* * *
PAGE 218
Никогда не забуду, как он подарил мне очень дорогое издание «Рейнеке-лис» с чудесными иллюстрациями. Это было сделано в дни, когда ему приходилось рассчитывать каждый гривенник. О том, чтобы не принять подарка, не могло быть и речи, - он бы жестоко обиделся.
В одну из поездок в Гатчину к Куприну он подарил писателю пару великолепных старинных шпор из серебра, купленных у какого-то любителя старины. Куприн - неистовый лошадник - был в восторге от такого подарка.
Еще до первой мировой войны, живя в Петербурге, Грин иногда проделывал такую вещь. Придя поздно вечером в Купеческий клуб на Фонтанке, где его хорошо знали швейцары и гардеробщики, он просил вызвать из игорной залы Якова Адольфовича Бронштейна.
Яков Адольфович, или, как его все в Петербурге звали, «дядя Яша», был инженер-химик, обаятельный, богемистый, с очень широкой душой человек, покровитель театральной и литературной молодежи, сам - талантливый чтец и импровизатор, - по-крупному играл в карты.
Бронштейн спускался в швейцарскую. Грин вручал ему пять рублей или даже трешницу и удалялся ждать в тот темный угол гардеробной, где стоял огромный клеенчатый диван с продавленным сиденьем.