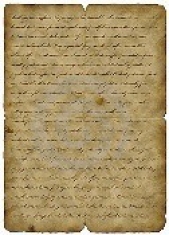Воспоминания об Александре Грине

Воспоминания об Александре Грине читать книгу онлайн
Александр Степанович Грин проработал в русской литературе четверть века. Он оставил после себя ро¬маны, повести, несколько сотен рассказов, стихи, басни, юморески.«Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей», — говорил он.Предвидение Грина сбылось. Он один из самых лю¬бимых писателей нашей молодежи. Праздничные, тре¬вожные, непримиримые к фальши книги его полны огромной и требовательно-строгой любви к людям.Грин — наш современник, друг, наставник, добрый советчик
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хочу кончить, потому что не надо вспоминать больше того, чем помнишь.
Человек связан с земным тяготением - это истина. Мы привыкли быть тяжелыми, но умеем прыгать, умеем летать.
Хотя бы в мечте можем преодолеть тяжесть.
Грин часто писал о людях, освобожденных от тяжести, но сохранивших новую весомость - весомость ответственности друг за друга.
Человек для человека - цель и путь.
НИК. ВЕРЖБИЦКИЙ
СВЕТЛАЯ ДУША
До конца дней своих я хотел бы бродить по светлым странам моего воображения.
А. С. Грин
В начале осени 1913 года А. С. Грин, только недавно приехавший в Москву, вдруг удивил меня неожиданным предложением:
- Поедем вместе в Питер. Завтра у Куприна день рождения 1, надо навестить старика.
Я знал, что Грин собирался в Москве засесть за большую вещь, поэтому такое заявление показалось мне странным. Ни с того ни с сего, накануне зимы, вернуться в Петербург - это значило опять надолго окунуться в целую кучу встреч и приключений, от которых Грин, собственно говоря, и бежал, рассчитывая на спокойную жизнь в Москве, где у него был очень ограниченный круг знакомых.
Тем не менее я согласился ехать. По всему было видно, что Грин находится в каком-то смятении и что ему нужен спокойный заботливый спутник.
… В Гатчину мы явились на другой день вечером. У Куприна было много гостей. Он растрогался, узнав, что мы, желая поздравить его с сорокатрехлетием, специально проделали путь в шестьсот верст.
Беседуя, Александр Иванович все время как-то загадочно поглядывал на Грина, а после ужина отвел меня в сторону и спросил:
- Можете поклясться, что приехали из Москвы?
- Клянусь! - воскликнул я, торжественно подняв над головой два пальца правой руки. (Это был у нас знак абсолютной правдивости.)
PAGE 208
- А мне тут кое-кто шепнул, что Грин давно уже под замком у «Ивана Ивановича»…
«Иван Иванович» - это было условное обозначение одной частной психиатрической лечебницы.
- Первый раз слышу! - заявил я. - Он пробыл в Москве дней десять… Хотел работать… Об «Иване Ивановиче» не было ни ползвука…
- Хорошо. Кончим на этом, - сказал Куприн. - «Из дальнейшего читателям станет ясно…» - как пишет в своих романах Брешко-Брешковский…
Согласно обычаю, сидение за столом продолжалось до глубокой ночи. Из разговоров, которые происходили, мне запомнился спор Куприна с видным журналистом Б. Журналист, «примыкавший к социал-демократам», доказывал, что дальнейший путь человечества, ведущий в «царство радостного труда и безмятежного счастья», лежит через мирную договоренность классов, с помощью последовательных реформ и соглашений. Журналист принадлежал к меньшевистскому толку.
Куприн решительно отрицал мирный путь, который, по его мнению, для России никак не годился. Кроме того, он настаивал на полной непримиримости интересов богатых и бедных.
Вмешался Грин.
Он предложил, решая социальные вопросы, не забывать и про географию.
- Почти вся известная нам история человечества, - сказал он, - творилась на маленьком полуострове, который мы называем Европой. Почему нельзя допустить, что в дальнейшем ее возьмут в свои руки люди, населяющие основной и притом колоссальный материк - Азию? В душе Востока много для нас таинственного и непонятного.
Помнится, что никто серьезно не принял этого замечания Грина, хотя у всех на свежей памяти была русско-японская война.
Кто- то вспомнил про судьбу гуннов, о миллионных полчищах Чингисхана, кто-то пошутил насчет Великой китайской стены. Только Куприн вдруг насупился и умолк. Его всегда занимали и волновали вопросы далекого будущего в масштабе всего человечества. А когда выбрался подходящий момент, он вплотную приблизился к Грину, как он это любил делать во время самого доверительного разговора, и пробурчал:
8 Зак. № 272 PAGE 209
- Насчет азиатов - это слишком страшно и слишком серьезно, чтобы отделываться шутками… Я много думаю об этом. И может быть, именно потому, что сам на две трети принадлежу к азиатам…
По- видимому, ему захотелось напомнить, что он со стороны матери чистейший татаро-монгол, а со стороны отца -тоже какой-то, как тогда говорили, «инородец» восточного происхождения.
Рассказываю об этом, потому что сейчас, спустя полвека, интересно вспомнить, какие вопросы обсуждались тогдашними писателями даже за пиршественным столом.
Есть люди, которые до сей поры утверждают, что после революции 1905 года, при наступившей реакции, почти вся русская литература стала приносить обильные жертвы на алтарь безверия, уныния и равнодушия. Если это и правда, то только по отношению к некоторым изолированным группам литераторов, которых Горький так резко, но вполне справедливо обозвал «смертяшки-ными».
Купринская группа, включая Грина, никогда к этим людям не принадлежала, декадентов и гробокопателей высмеивала. Даже порядочное время спустя, в эмиграции, когда общая судьба отверженных родиной людей должна была несколько сгладить взаимную неприязнь, Куприн в Париже люто ненавидел «господ Мережковских» и наградил их меткой и убийственной кличкой: «отравители колодцев».
Мы с Грином вернулись в Петербург часа в три ночи.
Вышли из Варшавского вокзала, ступили на тротуар, оглянулись по сторонам и увидели, что оглядываться, собственно говоря, не на что. Город был плотно закутан в густейший молочный туман. Такого тумана я, уроженец Питера, никогда в жизни не видел. Это был неосязаемый океан чего-то белого, насыщенного щекочущим ноздри запахом пароходного, фабричного и печного дыма, который, как это обычно бывает, завязнув в тумане, стелется низко над самой землей.
Медленно и осторожно двигаясь по тротуару от одного светлого фонарного пятна к другому, мы вдруг с величайшей радостью наткнулись на извозчика. Подо
* * *
PAGE 210
шли к нему на расстояние полушага и увидели, как он, сгорбившись, сидит на облучке, опустив голову и засунув руки в рукава.
Ночной извозчик - классическая фигура старого Петербурга. Вот эдак, ночь за ночью, часами дожидался он случайного, большей частью хмельного седока, который за тридцать копеек нанимал его куда-нибудь на Черную речку или в Гавань. Худая кляча два часа тряслась по булыжникам. Потом седок, не расплатившись, исчезал через проходной двор, а несчастный «ванька» (так звали тогда питерских извозчиков) в отчаянии хлопал себя по бедрам и крыл всех бар распоследними словами.
Наш извозчик, очевидно по причине тумана, решил вообще не двигаться с места. И нам больших хлопот стоило уговорить его отвезти нас, через весь город, на Петербургскую сторону. В конце концов он согласился, наверное потому, что уж очень скучно было оставаться в одиночестве среди этакого туманища.
И вот мы поехали, то и дело натыкаясь на фонари и тумбы. Пешеходов не было, трамваи не ходили, автомобили тогда были в редкость. Единственными указателями направления служили длинные и невыразимо тоскливые гудки, несущиеся со стороны Невы, - это пароходы и буксиры предупреждали друг друга.
Очевидно, Грина нервировала эта таинственная обстановка. Он без конца говорил, и я впервые имел возможность более или менее близко прикоснуться к его беспокойной душе.
Впрочем, говорил он довольно бессвязно. Это все были какие-то невеселые воспоминания, часто переходившие в жалобы. Иногда прорывались скорбные фразы о том, как трудно устроить личную жизнь, а в особенности - поладить с женщиной, которая не может или не хочет тебя понять…
Такого рода излияния стали для меня понятны, когда я узнал, что Грин везет меня к своей жене Вере, жившей на Зелениной улице.