Дочки-матери
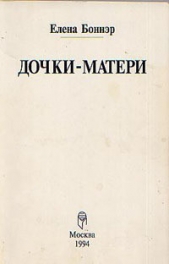
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рассказывая о девочках, Ольга Андреевна не то чтобы ругала маму и папу, но как бы попутно, как бы случайно их осуждала. Она говорила, что меня совсем не воспитывают. И «никакого образования», никакого, «даже языков», и «как же так, девочка без уроков музыки». Про«языки» я про себя думала, что мне это не надо, ведь я не графская дочь. А про музыку, которой мне как раз хотелось заниматься и я даже просила об этом маму, я отвечала мамиными словами, что у меня ведь нет слуха. Но Ольга Андреевна говорила, что это пустая отговорка, что у какой-то из ее девочек тоже не было слуха. Может, она была права. И про языки — как обидно, что мама и папа, следуя принятым в те годы представлениям, считали, что хватит того, чему учат в школе. Так что в широком плане истина была за Ольгой Андреевной. Я так и осталась — «никакого образования, никакого, даже языков».
Мне казалось, что из рассказов Ольги Андреевны я знала про жизнь девочек все, и ее любовь к ним вполне понимала. Я сама готова была их полюбить, но считала, что мне нельзя — ведь они «графские дочери». Это был запрет на любовь — не чужой, а свой собственный.
Любимыми должны были быть и были «Красные дьяволята». Русские дети, брат и сестра, и их друг — китайский мальчик. Они скакали на лошади, ходили в разведку по заданию «красных», убегали от «белых», стреляли и убивали. Даже герои Майи-Рида и Купера не могли стать столь же любимыми. «Газетные воробьи», норвежская девочка Гой Дальбак. Потом я полюбила Павку Корчагина. Мама принесла рукопись. Где она ее взяла, я не знаю. Это была первая рукопись, которую я читала. Первый «самиздат». Когда спустя, наверное, два года вышла книга и я ее перечитала, у меня было впечатление, что она стала меньше. Позже я полюбила героев Гайдара и, конечно, Чапаева — после фильма, а книга показалась скучной. О Павлике Морозове я не читала. Как книги о нем прошли мимо меня, не знаю, но я и до сегодняшнего дня их не видела. Классе в шестом пришли Амундсен и капитан Скотт. Одного любила за то, что он выиграл, другого — за его великий проигрыш. Может, это был не мой выбор. Просто тогда вышли эти книги. Тогда же и навсегда я полюбила Тиля.
В это же время я тайно зачитывалась Чарской, читала Вербицкую. Из-за этих книг я даже вроде как подружилась с девочкой старше меня года на два, но учившейся в нашем классе. Ее звали Леля Т. Она с мамой жила в самом начале Кузнецкого моста, в доме напротив фотографии Паоло, у известного артиста Большого театра. Квартира была огромная, темная от всяких портьер, занавесей, ковров, заставленная какой-то очень крупной, тяжелой, тоже темной мебелью. Надо было пройти три или четыре большие комнаты и коридор. В конце его была кухня, а напротив нее — небольшая комната, в которой жила Леля с мамой. Комната была почти непроходима от невероятного количества мебели: две кровати, шкаф, комод, круглый стол, креслица и пуфики и еще что-то. И угол, сплошь увешанный иконами. Вернее, даже не угол, а две углом расходившиеся стены, так что иконы были и над кроватями и даже почти под потолким — над шкафом. Однажды я почему-то шепотом спросила у Лели, верит ли она в Бога, и она ответила мне кивком головы. Потом она сняла галстук, расстегнула кофточку и показала маленький золотой крестик. Он был у нее не на шее, а за цепочку прикреплен к бретельке рубашки. В школе Леля была пионеркой, одно время была старостой класса, хотя училась скорей средне, чем хорошо, и вообще была »как все» девочки. Мама ее никогда при мне или со мной не разговаривала. На мое «здравствуйте» отвечала только кивком, почти не глядя — невысокая, худая, в чем-то темном.
Около двери в их комнату в коридоре стоял большой, не книжный, а какой-то «вещевой», шкаф. В нем были книги. Я быстро рылась там, выбирала очередную книгу и уходила. Все посещение Лели (сразу после уроков) длилось несколько минут, в которые обычно ни она, ни ее мама, ни я не произносили ни слова. Потом мое «до свидания». Леля бесшумно провожает меня до двери Я бесшумно выскальзываю на широкую, тоже почему-то полутемную лестницу. Во всем этом — в моем приходе, рытье в книгах, вопросе о Боге, молчании Лелиной мамы, отсутствии хозяина — было ощущение тайны. Тайны, которую Леля почему-то мне доверила. Я не знала других девочек, которые бывали у нес в доме или которым она давала книги. Я понимала, что мама, ну просто не знаю, что со мной сделает, если увидит, что я читаю. Но героини Чарской, особенно Нина Джаваха, мне нравились. Читать про них было так же интересно, как слушать рассказы Ольги Андреевны. Я даже иногда примеряла к себе образ Нины Джавахи, потому что, глядя на себя в зеркало, находила, что мы с ней похожи.
Однажды в шкафу у Лели я нашла книгу Данилевского «Мария Магдалина». Как всегда, уходя из дома, я засунула ее вглубь ящика своего письменного столика. Когда я пришла домой, мама встретила меня, размахивая книгой перед моим лицом, и стала кричать: «Немедленно скажи, где ты взяла эту гадость? Кто тебе дал эту книгу? Я должна, в конце концов, знать, с кем ты общаешься? Откуда она у тебя?»
Сказать? Выдать тайну? Лелю? Этого артиста и его квартиру? Золотой крестик? Я молчала. Мама снова повторяла свои вопросы и все больше распалялась. Я молчала. Вдруг она протянула руку и стала бить меня по щекам. Не дала одну пощечину (это уже бывало два или три раза раньше), а ударила несколько раз по обеим щекам, больно. Потом повернулась и вместе с книгой исчезла в своей комнате. А я стала реветь, уткнувшись в подушку. Мне было стыдно, что она так орала, и, конечно, больно. Но ревела я от того, что не знала, как теперь быть. Как вернуть книгу?
Утром, когда мама и папа ушли на работу, а Ольга Андреевна за покупками, я решила искать ее в маминой комнате. Конечно, мама могла унести книгу с собой, но надо было проверить. Я просмотрела все в книжных шкафах за книгами. Там, поперек стоящих корешками к стеклу книг, у мамы иногда хранились какие-то другие. Потом я проверила платяной шкаф. Потом ящики письменного стола. У нас в доме никогда не было ключей и ничто не запиралось. Только один ящик (нижний) в папином письменном столе имел замок. Я знала это и знала, что там лежит оружие — папино — какое оно, не знала, и откуда оно у него, тоже не знала. Запирать этот ящик начали еще в Ленинграде. Там произошла страшная трагическая история.
Один из трех сыновей Вилли Бродского, того самого, фамилию которого я перепутала с «Троцкий», мальчик на год старше меня, и, значит, ему тогда было шесть лет, нашел отцовский пистолет и стал с ним играть. В это время в комнату вошел его двоюродный брат Люся Крельштейн. Бродские, Крельштейны и еще какие-то их друзья жили коммуной на набережной Фонтанки в большой квартире, так же, как мы на нашей Малой Морской, ставшей потом улицей Гоголя. Люся был уже большой мальчик, лет четырнадцати, высокий, красивый, добрый. Мы — все малыши — его очень любили. Люся, увидев пистолет, крикнул младшему «положи», но младший, играя, прицелился и, играя, нажал курок. Люся был убит наповал. Потом малыша отправили куда-то к бабушке в Сибирь, потом он погиб на фронте. А тогда все взрослые и дети были потрясены гибелью Люси. И тогда же из разговоров взрослых я поняла, что у нас тоже есть «оружие», узнала, где оно лежит, очень его боялась, как будто знала поговорку, что «оружие само стреляет». И никогда у меня не было в мыслях заглянуть в этот ящик. Но тут я решилась.
Нигде не видя ключика от ящика, я взяла большие ножницы и стала ими отодвигать вниз железку замка, чуть видимую в просвете, и она легко пошла вниз. Сверху в ящике лежала отнятая мамой книга, под ней какие-то исписанные папиным почерком листы. Я взяла книгу. Но мне захотелось посмотреть «оружие». Я вынула листы на пол. Теперь, насидевшись вдосталь за пишущей машинкой, я бы сказала, что это была большая рукопись, целая книга. Под ней лежала деревянная кобура, наверное, длиной сантиметров пятьдесят. Сбоку на ней были два кожаных ремешка. Я, не вынимая эту штуку из ящика, раскрыла ремешки и подняла крышку. Там лежало что-то темное, блестящее, похожее на маленькую винтовку, только как-то шире и плотней. Как оно называлось, я не знала, но смотреть на «это» было неприятно. Я закрыла крышку, застегнула ремешки. Так спокойней. Рядом была небольшая, темной потертой кожи кобура. Ее я достала из ящика, дрожащими руками вынула то, что (теперь я знаю) называется пистолет. Переложила с ладони на ладонь и убрала назад, в кобуру и в ящик. В глубине лежали еще три картонные коробочки, такие, как от печенья, но без картинок на крышке. Я вынула одну, поражаясь, что она такая тяжелая, и, поставив на стол, открыла. Там были, как я тогда про себя назвала, — пули. «Девять граммов в сердце, постой, не зови...» Они лежали ровными рядками, блестящие, очень красивые и очень страшные, страшней самого «оружия».
























