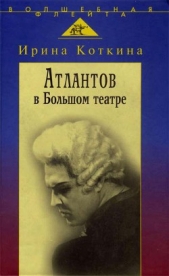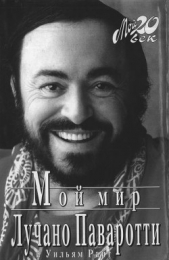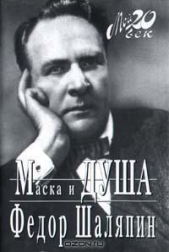Записки оперного певца
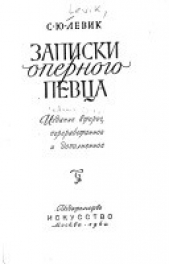
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— О, это была восьмилетняя война, но я ее еще веду.
В антракте я разговорился с его секретарем и узнал,
что Баттистини каждое утро подолгу поет гаммы, арпеджио, колоратурные арии и, главное, упражняет дыхание с часами в руках. Эта школа и дала ему замечательное легато — основу бельканто.
Как ни несовершенны его пластинки архаической давности, достаточно прослушать любую из них, чтобы убедиться в его необыкновенном кантабиле.
Поразительно было дыхание Баттистини. Оно было очень велико, и набирал он его так незаметно, что, даже следя за этим специально, не всегда удавалось уловить, где же он сделал вдох.
Баттистини восхищал, но никогда не потрясал слушателей, даже в самые патетические моменты переживаний несчастного Риголетто, в минуты трагических вспышек Макбета, сцену которого он исполнял в концерте. Высший драматический подъем выливался у него обычно в огромную волну голосовой стихии, в массив замечательных звуков. Но никогда Баттистини не мог подняться до шаляпинского страшного, громоподобного гнева в словах: «А мы стоим и смотрим» из «Юдифи», до трепета титанических возгласов Ершова в «Валькирии», до трагедийности его же интонаций в партии Гришки Кутерьмы.
Драматизм Баттистини лежал в другой плоскости. Это не был драматизм певца-актера, всеми движениями души участвующего в каждом переживании персонажа,— это было поэтичное, правдивое, убедительное изложение чужих переживаний. Перед зрителем стоял не сам персонаж, не сам герой, но его адвокат — выдающийся адвокат, проникновенный защитник, но не непосредственно кровно заинтересованное лицо. Вот почему Баттистини почти стушевывался, как только партитура лишала его слова.
Выражаясь по-старинному, можно сказать, что Баттистини был прирожденным барином, он прекрасно себя держал
<Стр. 183>
в ролях вельмож, но вряд ли мог бы представить интерес в роли какого-нибудь Беппо из «Фра-Дьяволо» или в роли, подобной роли Еремки во «Вражьей силе». Думается, что он потому и партии Тонио в «Паяцах» не пел, а ограничивался исполнением эффектного «Пролога» и певучей партией Сильвио.
Присущая Баттистини скромность по-настоящему высокого духа, чувство большого художественного такта и меры, благородство каждого движения — физического или душевного безразлично — никогда не давали ему «премьерствовать» на сцене. Он всегда занимал на ней ровно столько места, сколько ему было отведено партией и постановщиком. Темперамент его был большой, но крайне сдержанный. Грубость, нажим были чужды его натуре.
Характерно, что не стеснявшийся никакой тесситурой Баттистини не сочувствовал начавшемуся завышению оркестрового строя. Музыканты рассказывали, что он перед началом спектакля входил в оркестровую яму со своим камертоном-дудочкой и просил проверить строй именно по нему.
Некоторые спектакли Баттистини я слушал из-за кулис и был очень близок к его, так сказать, «кухне». К тому времени я уже был снедаем модным недружелюбным отношением к «итальянщине», к «вампуке». В воздухе уже носились идеи оперного реализма. Кроме того, меня все более и более захватывали шаляпинские образы. Если раньше у меня, при восхищении баттистиниевским искусством, порой возникала мысль, что он, пожалуй, поет, как Шаляпин, то тут я ясно понял и почувствовал, какая между ними огромная разница и в чем она заключается.
Во-первых, когда Шаляпин был на сцене, он вас держал железными руками. В вашем сердце могло отражаться только то, что давал он, властелин всех ваших мыслей, всей вашей воли. Когда он по требованию партитуры умолкал, вы вместе с ним переходили к новому состоянию его образа.
Ничего подобного не вызывал Баттистини. Вы ждали, разумеется, чтобы он опять запел, но в минуты его вынужденного молчания вы прислушивались и присматривались к тому, что происходит на сцене, иногда даже забывали о его присутствии. Шаляпин «хватал вас за горло.» и приковывал к своей сценической колеснице. Баттистини
<Стр. 184>
же только ласкал, уносил вас в какие-то чисто певческие, поэтические, беспредметные дали, часто давая передышку.
Во-вторых, внешний облик Баттистини мало менялся и никогда не создавал иллюзий перевоплощения. В костюме шута Риголетто, в коротких штанишках Фигаро, в наряде Ренато и в одеянии Демона вы всегда видели одного и того же человека: благодушное, по румянцу почти девичье лицо, висячий ястребиный нос с горбинкой и холеные руки с кольцами на пальцах. Бородка в Онегине напоминала бородку Ренато, локоны Демона — локоны шпиона Барнабы. Баттистини ни в кого никогда не перевоплощался, а был только, как уже говорилось, адвокатом своих персонажей, надевшим на себя их костюм.
Должен, однако, засвидетельствовать, что по своему интеллекту Баттистини значительно превосходил других итальянских певцов.
Один из учеников и друзей Баттистини, киевлянин Л. И. Вайнштейн, после Октябрьской революции профессор Киевской консерватории и автор книги об Эверарди (Киев, 1924), у которого он тоже одно время учился, дал мне в феврале 1910 года письмо к Баттистини с просьбой меня прослушать. «Король баритонов» жил тогда в Петербурге в гостинице Кононова (Мойка, 21) и занимал в ней трехкомнатный номер. Явился я в десять часов утра. Коридорный сказал мне, что секретарь-переводчик Баттистини ушел, и поэтому он меня пропустить не может. Я настаивал, отвечая, что говорю по-французски. В эту минуту открылась дверь номера: Баттистини случайно был возле и услышал, что его кто-то добивается. Увидев его, я протянул письмо со словами: «Это от Вайнштейна». Баттистини просиял, протянул мне руку, не отпуская, ввел в номер, снял с меня пальто и, наскоро просмотрев письмо, сказал: «Вы друг моего Леона? Но тогда вы и мой друг!»
Меня поразило, что в десять часов утра он был уже полностью и очень элегантно одет, не так, как в эти часы бывают полураздеты многие другие знаменитости. Ласковость приема была чрезвычайная. Когда я затруднялся каким-нибудь оборотом речи, он так дружелюбно подбрасывал мне французские слова и так по-детски смеялся, если попадал мимо, как будто испытывал от моего визита исключительное удовольствие.
<Стр. 185 >
Я стал просить его прослушать меня не дома, а обязательно в Народном доме, в спектакле. Оказалось, что он свободен тогда, когда я пою не партии Демона, Фигаро или Риголетто, как мне бы хотелось, а партию Валентина в опере «Фауст». Я выразил по этому поводу свое сожаление. Но Баттистини насупился и, шагая по своему огромному номеру, стал мне выговаривать:
— В каком тоне вы поете арию?— и, не давая ответить, продолжал: — Великий Девойод считал партию Валентина одной из интереснейших. Вокально она дает певцу возможность показать себя со всех сторон: ария очень певуча, сцена смерти полна драматизма. Но Валентин, кроме того, еще и очень благородный человек. Подумайте только: уходя на войну, он молится не о своем спасении, а о спасении сестры. При подозрении, что ее хотят обидеть, он идет в бой с двумя противниками, из которых один своим видом может устрашить кого угодно, а другой— синьор, за убийство которого грозит казнь. Таких благородных ролей у баритонов очень мало!
Об этической оценке своих ролей итальянскими певцами мне, кроме этого случая, ни до ни после слышать или читать не пришлось, если не считать отзыва Страччиаре о сервилизме Риголетто.
В то же время Баттистини «не было чуждо ничто человеческое». Так, например, уступая льстивым речам шарлатана А. Г. Ромео, он дал ему хороший отзыв о его плохой книге «Итальянская школа пения». Когда на спектакль присылалось мало цветов, он был способен послать своего секретаря прикупить две-три корзины. И был суеверен.
Однажды я пришел в его уборную, когда его еще не было. В ожидании я присел было в удобное, хотя и потрепанное кресло. Бывший тут же режиссер Дума замахал руками. Я вскочил как ужаленный, а он объяснил мне, что в первый свой приезд в Петербург Баттистини сидел в этом кресле, пока костюмер готовил ему костюм. С тех пор он, как придет, так первым делом присаживается на две-три минуты в это кресло и только потом идет гримироваться.