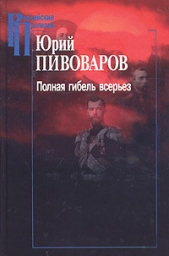Юрий Любимов. Режиссерский метод

Юрий Любимов. Режиссерский метод читать книгу онлайн
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Юрий Трифонов в кабинете у Юрия Любимова.
Яркий свет, эффектно возникающий в глубине сцены, эффектно врывающийся танец фигуристов. Бешено вертящаяся на одном месте мигалка и взвывающая сирена скорой помощи. Становящиеся своеобразными номерами эпизоды с Маклером С. Фарады, который мчится по краю сцены, театрально жестикулирует и выкрикивает, почти декламируя, текст, состоящий из названий московских улиц и районов. Обмен оборачивается игрой. Реальность, в которой «живут» персонажи, становится похожей на театр. Жизнь переходит в игру. Но катастрофу, пограничное существование, бытие и небытие, жизнь и смерть эта всеобщая игра не отменяет. А «настоящие» крупные капли дождя, барабанящие в финале по полиэтиленовой пленке, накинутой на занимающую всю сцену мебель – это жизнь? «Всего-навсего» красивый финал спектакля? Или, может быть, театрализованная жизнь? Снова режиссер создает двойственную ситуацию: жизнь – игра. Самому театральному режиссеру второй половины века, резко разграничившему театр и жизнь, может быть, как никому, ведом трагизм переходов, происходящих на этой грани.
Демонстративно выявленная условность средств режиссерского языка уже сама по себе обеспечивает метафоризацию любой мизансцены, созданной с их помощью. Хотя бы потому, что воплощая любое событие, такая мизансцена одновременно оказывается и образом театральной игры.
Особенно заметное становление этого образа происходит, когда в мизансцене действуют отчетливо «театрализованные», по сравнению с остальными персонажами, герои, например, Маклер в «Обмене», не без оснований названный К. Рудницким шутом [72, 274–275]. Именно шут начинал спектакль «Пугачев» есенинскими же строками из «Песни о великом походе» – и становился полноправным персонажем спектакля, постоянно обнаруживая в трагедии комическую изнанку.
В спектакле «Что делать?», напротив, среди буффонады, в приемах которой разыгрывалась водевильная история охоты Марьи Алексеевны за женихом, вдруг возникала «трагическая тема – тема шута. Шут – отец семейства Павел Константинович Розальский, шут – Мария Алексеевна, шутовство вся эта жизнь, весь этот водевиль. Провели все-таки «проницательного» зрителя, – замечал рецензент, – не комедию, а трагедию показали ему» [1, 11].
Действовал шут и в «Доме на набережной» – в образе городского сумасшедшего – «вот как Юрий Карлович Олеша в Москве» – говорил на репетиции режиссер. Человек в берете – Д. Межевич, которому, как и шуту, по статусу, все можно, неожиданно врывался в пространство спектакля, мчась, как по парапету, по проходу зрительного зала, вскакивал на авансцену, рассуждая о принятых сокращениях: «этого не может быть! Это не должно быть в природе! Вы слышите? Средняя школа ЛОНО! Какое ЛОНО?

Дом на набережной. Неизвестный – Л. Филатов; Глебов – В. Золотухин; Шулепников – Ф. Антипов.

Живой. Сцена из спектакля.
Что за бред? Боже мой, понимают ли, что творят?» Остальные находившиеся в этот момент на сцене персонажи спектакля опасливо шарахались от него. Он барабанил по стеклу стены, словно стараясь достучаться до тех, которые «не ведают, что творят», вспоминая очередную абракадабру из сокращений, но, так и не вспомнив, махал рукой и, вдруг заиграв на воображаемом саксофоне, приплясывая, с песней убегал восвояси. Позднее он появлялся где-то высоко над уровнем сцены – почти что под куполом цирка, – иронизируя по поводу Глебова, богатыря-тянульщика резины: «так гибнут замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих размышлений. Конец цитаты. Напоминаю: Шекспир. “Гамлет”». Что-то от шута, а что-то от юродивого было и в Ферапонте (А. Серенко) из «Трех сестер». Он был всеведущ, подобно юродивому. Судьбу персонажей знал наперед и не скрывал этого, начиная ходить со свечой «за приговоренными» или обкладывать их флажками. И с латинского переводил в нужный момент, выговаривая изречения, глядя в зал, и с интонацией, выдающей у него какое-то неведомое другим знание. Или просто снижал ситуацию, пересчитывая сестер и на пальцах показывая нам их количество.
В «Живом» шут в блистательном исполнении В. Золотухина оказался главным героем. Федор Кузькин, который говорит, что думает, и жить старается по своему разумению. В огне не горит и в воде не тонет: «Судьба мне опять поставила точку (…), а я ей – запятую, запятую…». Конечно, он стал своеобразным лирическим героем Театра на Таганке и прежде всего режиссера. Не зря на замечание П. Капицы: «В сущности вы сам – Кузькин», – Любимов ответил: «Я комедиант, мне по должности положено быть Кузькиным» [65, 23]. И в «Пугачеве», в высказываниях шута-интеллигента – Б. Хмельницкого, который говорил, «не подделываясь ни под раек, ни под ярмарочного зазывалу, втолковывая нам негромко и серьезно» [46,20]:
– слышался лирический пафос не только актера, но Театр а на Таганке и прежде всего – Юрия Любимова.
Помимо шутов, излюбленные персонажи режиссера – музыканты, певцы и дирижеры, не имеющие никакого отношения к фабуле и играющие существенную роль в сюжете спектакля. Такие непосредственно действующие в мизансценах музыканты и певцы были в «Добром человеке из Сезуана» и в «Десяти днях, которые потрясли мир», в «Гамлете», «Живаго (Доктор)», «Медее» и «Подростке». Дирижеры оказались полноправными героями мизансцен в «Борисе Годунове» – здесь один из них был даже во фраке.
Они по-разному включались в действие, но все «взрывали» мизансцену изнутри, вступая в драматические отношения с другими персонажами. Иногда музыканты аккомпанировали другим героям, заведомо остраняя фабульное событие. Противостояние героев спектакля миру, переводясь в план игры, одновременно существенно драматизировалось. А в развитии конфликта участвовали и эти, сочиненные режиссером персонажи.
Конечно, мизансцена с «танцем» Шен Те в фате под аккомпанемент песни музыкантов – ведущих в «Добром человеке из Сезуана» была игровым «номером». Но перевод «жизни» в игру приводил к тому, что трагический сдвиг становился еще явственней. Кроме того подобное остранение приводило в «очищению» и концентрации трагедии.
В «Гамлете» мальчик-актер, играющий на флейте, вел свою мелодию, независимую от происходящего на сцене. Но его участие в мизансцене придавало ей игровой характер.
Оркестрик на сцене в «Живаго (Доктор)», аккомпанировал происходящему и тем самым обострял ситуацию, заставляя ее мерцать на грани жизнь-игра. Порой музыканты прямо вмешивались в «жизнь».
Иногда то один, то другой оркестрант играл кого-нибудь из героев спектакля, при этом нередко даже не расставаясь с музыкальным инструментом. Так, В. Шуляковский, превращаясь из гитариста в Начальника станции, просто переводил гитару за спину. А скрипачка – Л. Маслова, становясь Еленой, не прекращала играть на скрипке, «пропевая» роль и аккомпанируя сама себе.
Отдельные эпизоды «Подростка» происходили в «углах» и выгородках, создававшихся по ходу спектакля в разных местах сценической площадки с помощью подвижного занавеса, который играл в каждой мизансцене роль комнатной матерчатой ширмы (художник А. Шлиппе). Одновременно он оставался и театральным занавесом, к тому же переходившим из эпизода в эпизод. Образ театра возникал в каждой мизансцене и благодаря уличному оркестрику, почти постоянно находившемуся «на улице», под козырьком «крыши» справа на авансцене. Этот оркестрик автономно вел свою партию. Исполняемые им мучительные, без конца кружившие мотивы Э. Денисова становились порой аккомпанементом происходящему в «интерьерах», остраняя его, нарушая камерность интерьеров, и без того нежилых и бесприютных.