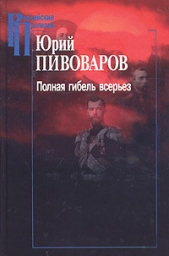Юрий Любимов. Режиссерский метод

Юрий Любимов. Режиссерский метод читать книгу онлайн
Книга посвящена искусству выдающегося режиссера XX–XXI веков Юрия Любимова. Автор исследует природу художественного мира, созданного режиссером на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке с 1964 по 1998 г. Более 120 избранных фотографий режиссера и сцен из спектаклей представляют своего рода фотолетопись Театра на Таганке.
2-е издание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ощущение хрупкости жизни не покидает зрителя и во время развития общих планов в сумеречном освещении, когда неверным свечением мерцают лица и руки актеров и персонажей.
Любопытный эффект возникает, если прямым светом высвечивается только лицо персонажа: в качестве тени мы видим голову с нимбом. Предположить, что режиссер этого не замечает, невозможно. Каждый, кто был на репетициях, знает, как точен и дотошен режиссер в построении световой партитуры (не только ее, разумеется). Причем такие тени сопровождали персонажей как ранних, так и поздних спектаклей, например, и «Антимиров», и «Подростка». Дело тут, конечно, не в святости героя и не в том, что каждый, даже самый ничтожный – сотворен по «образу и подобию». Разумеется, зритель волен создавать точечные, собственные смыслы. Но они так и останутся одними из многих или привнесенными. Для нас интересны те смыслы, которыми сквозит сама художественная материя, укорененные в ней. В данном случае нужно, видимо, говорить о мотиве двойника и более общем – мотиве двойничества, поскольку именно он пронизывает многие и разные уровни спектакля. Начиная с раздваивания образа, создаваемого актером – на персонаж и «собственно» актера, – до игры одним актером (без изменения внешности) нескольких ролей и, наоборот, исполнения одной роли несколькими актерами в один вечер. Тем более, что приверженность этому мотиву демонстрируется режиссером постоянно, во все периоды его творчества.
Порой свет вроде бы начинает «солировать», завладевая всей площадкой, – но тут же, как правило, возникают тени, огромные, могущественные, самовольные. Удается вдруг прорваться на сцену и весеннему солнечному свету – сквозь рощу в «Живом» или прифронтовой лес в спектакле «А зори здесь тихие…». Но лишь на несколько мгновений. В жестком поединке, разворачивающемся внутри световой партитуры и в этих, и в других спектаклях, такое случается редко и бывает кратковременным.
Впрочем, сам свет в любимовском спектакле имеет прямое отношение к мотиву двойничества. Он, свет, разумеется, противостоит тьме. Но на ярко высвеченной пустой площадке Юрий Живаго из «Живаго (Доктор)» не выглядит защищенным, как и Шен Те из «Доброго человека из Сезуана». А Галилей из «Жизни Галилея» и вовсе «оказывается то распятым на стене в световом круге, то пригвожденным к полу пронзительным белым лучом сверху» [84, 13]. Да и в «Медее» лампа будто не светит, и ее лучи застыли в оцепенении. Наконец, свет, проникающий на сцену сквозь решетку в полу – в «Гамлете», «Высоцком» и «Живаго». Из подземелья. Или из преисподней?
Как видим, в любимовском спектакле не только собственно актер, но и куклы и маски, тени и костюмы, музыка, сценография (помимо уже перечисленных отдельных ее элементов) и свет – играют роли. Сам же актер помимо традиционной, получает дополнительные роли: художника, гражданина и зрителя. Создаваемый актером образ в целом является отдельной составляющей режиссерского языка. Но, как мы уже заметили, актерскую речь, пластику актера, «масочную» мимику режиссер использует и в качестве самостоятельных элементов своего языка. В этом случае они играют роли, отличные от присущих им в составе целостного актерского создания.
Играя роль, каждое средство языка участвует в драматическом действии спектакля. Тем самым все обнаруженные нами составляющие любимовского языка заведомо театральны. В действии участвуют также демонстрация условности и демонстрация мастерства актера.
В разделе о композиции мы говорили, что части, из которых Любимов строит спектакль, относительно самостоятельны и завершены в себе. Наш анализ обнаружил верность этого принципа и на уровне языка, кстати, подтвердив саму возможность поэлементного анализа языка. Каждый элемент, как правило, не вторит окружению, не сливается с ним, а ведет собственную партию. Все вместе они составляют контрапункт голосов, включающихся в действие при восприятии их зрителем.
Значит, в любимовском спектакле и эта «мельчайшая» частица – языковая – участвует в становлении целого в качестве относительно обособленной и законченной в себе составляющей со своим смыслом. То есть можно сказать, что языковой элемент является не только средством, но и целью, как в поэзии, где слово – цель, в отличие от прозы, где оно средство [16, 543; 86].
Видны и другие параллели с поэзией. Это и «приращение смысла» при сопоставлении рифмующихся элементов; скажем, пластики разных персонажей, имеющей одинаковый ритм. И смыслообразование при повторах; например, при повторных одинаковых выходах персонажа. Кроме того каждый элемент, как минимум, однократно становится метафорой. Хотя бы в процессе исполнения не свойственной ему роли.
Итак, на уровне языка, формируется существенный содержательный слой. В него входят целые сквозные мотивы, созданные режиссером и участвующие в формировании драматического конфликта спектакля. Особенности средств языка приоткрывают существенные черты мироощущения режиссера в момент постановки.
Часть IV
О мизансцене

Щедрость художника
Говоря о «Добром человеке из Сезуана», мы обратили внимание на две мизансцены, в одной изображалась фабрика, в другой – толчея на скамье в табачной лавке, которую устроили оборванцы-ночлежники. В обеих – метафорический сдвиг смысла, и обе, оставаясь частью фабулы, одновременно прорываются за ее пределы. А остальные мизансцены спектакля? Вот, например, выход торговца коврами (Б. Хмельницкий) и его жены (Т. Жукова), от задника к среднему плану сцены. Этот выход, конечно, является звеном фабулы: герои идут в табачную лавку. Сценически затейливо придуманный, он может быть назван даже «торжественным выходом».
Старики, как и большинство персонажей спектакля, двигаются по прямой, параллельной стене-заднику. Затем, повернувшись под прямым углом – что само по себе тоже событие: настолько подчеркнут этот выразительный поворот – продолжают свое движение по направлению к залу. Именно так, глаголом, обозначающим длящееся действие – «продолжают», – выражается происходящее. При том, что перед нами крошечная сцена Театра на Таганке. Все сейчас – в этой паре, в том, как идут-плывут, семеня, два нелепых, немолодых, смешных и симпатичных существа. Он прижимает к себе какой-то поднос. Странная всклокоченная «старческая» шевелюра. Она вдвое ниже, сутулая. Беззубая, но добродушная улыбка, посвященная только ему, даже когда ее лицо обращено в зал. Смешно торчащие из-под платка уши. Куда идут – для нас уже не важно. Идут – это и есть событие. Множество подробностей, которые «наворочены» режиссером вокруг этого выхода, и блеск исполнения сделали из эпизода самостоятельный «номер». Целый мир, в котором для человека расчерчены траектории с прямыми углами, и – способность людей сохранить себя в нем… Трагикомизм человеческой жизни…
И еще многое другое вобрал в себя краткий эпизод.
Не осталась не замеченной нами молодость актеров. Тем более, что они и не скрывали ее, скорее, даже демонстрировали. И грим отсутствовал, и нестарческая ловкость исполнения старческой походки была. Существенно, для них и для нас, что молодые играли старых. Потому что в этом тоже обнаруживалось мастерство. Несомненно, героями, реальными, явными, а не подспудными, оказались не только торговцы коврами, но и актеры, которые как раз и демонстрировали собственное мастерство и сосуществовали на сцене с персонажами, открыто играли для нас и столь же открыто радовались этому. А исполнитель роли торговца, почти не изменивший внешность (лишь слегка растрепал волосы), толь ко что играл другую роль – ведущего-музыканта. Актеры, как полагается, по завершении номера срывали аплодисменты, причем на каждом представлении, в течение почти трех десятков лет. «Номер» становился метафорическим образом театра. Театра как такового. Но и любимовского, особого.