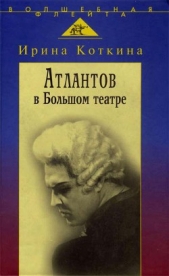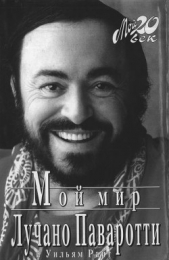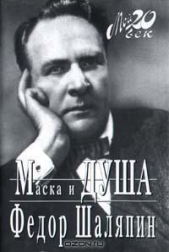Записки оперного певца
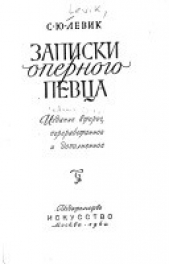
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В шестнадцать лет Медея дебютирует в маленьком городишке Синалунга в роли Азучены в опере Верди «Трубадур». Успех превосходит все ожидания. В знак восхищения молодой дебютанткой публика выпускает на сцену целую стаю голубей. Судьба Медеи решена: она в короткий срок становится знаменитостью.
Вскоре ее услышал баритон Виктор Морель, о котором говорилось выше. Он слушает Медею в двух спектаклях и предвещает, что, окрепнув, она года через три-четыре обязательно превратится в драматическое сопрано.
И Морель не ошибся. Проходит несколько месяцев, слава молодой певицы доходит до соседней Испании. После первых спектаклей в Мадриде испанцы при встрече с певицей на улице кидают красавице под ноги свои плащи и провожают ее возгласами: «Благословенно чрево матери, тебя родившей!» Ее приглашают за океан.
Встретившись во время своих гастролей в Южной Америке с Н. Н. Фигнером, Медея Мей становится его спутницей и в супружеской жизни и на сцене и вместе с ним весной 1887 года приезжает в Петербург уже в качестве драматического сопрано. Несколько лет она еще
<Стр. 164>
сохраняет в своем репертуаре меццо-сопрановую партию Амнерис и до конца пребывания на сцене блестяще справляется с партией Кармен, но чаще всего исполняет основные партии сопранового драматического репертуара — вплоть до вагнеровских полубогинь.
Голос ее — сочный, мягкий, ровный, полнозвучный, со свободными верхами и бархатными низами. В низах ее не было того контральтового тембра, который выработали у себя итальянские певицы Целестина Бонисенья, Евгения Бурцио, колоратурная певица Делли-Аббати, француженка лирико-драматическое сопрано Роз Феар и особенно русские певицы Брун, Веселовская, Ермоленко-Южина, Фелия Литвин, Черкасская и другие. Низы у Медеи Фигнер были густыми, сочными, но меццо-сопрановыми, а не контральтовыми.
Медея Фигнер прилагала много труда и усилий, чтобы освоить все особенности русской реалистической манеры пения. С первых же дней приезда в Петербург она захотела стать настоящей русской певицей. Через два года она уже пела Татьяну на русском языке. Критик Семен Кругликов отмечает в «Артисте» (1890, № 7), что она научилась петь по-русски почти без $кцента. Это преувеличение: следы акцента у Медеи Ивановны наблюдались до последнего ее выступления, но самый факт желания войти в сферу русского пения показателен.
Воздавая певице должное за ее искусство, считаю нужным несколько задержаться на умении овладеть чужой культурой, исполнительским певческим стилем других национальностей. Вопрос этот достаточно сложный. И вовсе не в одном овладении языком он заключается.
Есть элементарные вещи, неприемлемые для певца любой национальности, от которых нетрудно отделаться, — например, излишние двойные и даже тройные портаменто, или въезды в ноту (которых, в частности, не терпят ни русское пение, ни русская музыка), или скандирование отдельных слогов слова, что оскорбляет слух и разрывает ткань русской певучей речи. Есть вещи, которые хороши для певца любой национальности и которые как будто нетрудно усвоить: мягкость нюанса, сдержанность темперамента, максимальная скромность вокального, так сказать, поведения. Но есть и особенности, свойственные только данной национальной манере пения.
Маттиа Баттистини или Титта Руффо охотно пели
<Стр. 165>
русские оперы, а отдельные отрывки из них даже на русском языке. Баттистини во время своих гастролей в Варшаве в начале нашего века потребовал не только постановки «Демона» и «Евгения Онегина», но для своего бенефиса настоял на постановке «Руслана и Людмилы».
Казалось бы, вот факт настоящего приобщения к русскому искусству. Однако...
В роли Руслана мне услышать Баттистини не довелось. В ролях же Онегина и Демона я его слышал (и не раз) и должен отметить, что в его исполнении не было ничего от русского стиля. Трудно упрекать его за неумение глубоко проникнуть в существо русской музыки и русского исполнительского стиля, хотя он, артист культурный, возможно, и ставил перед собой такую идейно-художественную задачу. Может быть, исполнительскому стилю русских артистов, свойственному им от природы, к тому же воспитанному в течение многих десятилетий реалистическими традициями русской передовой литературы, не так уж и легко научиться. Но Баттистини не только не усвоил его хороших черт, которые были ему доступны, он не избавился и от тех явных итальянизмов, которые в русских операх были просто антихудожественны.
Обе названные партии — Демон и Евгений Онегин — отличаются от обычного итальянского оперно-баритонового репертуара своими тесситурами. Невзирая на лиризм многих мест, тесситура партии Демона в целом примыкает к баритоновым драматическим тесситурам не итальянского характера, как, например, партии Риголетто, Ренато («Бал-маскарад») или Нелуско («Африканка»), а к тесситурам русского баритонового репертуара: Мазепа (без вставной арии), Шакловитый, Игорь, то есть к партиям более низких вокальных позиций, независимо от отдельных высоких мест. Недаром же партия Демона привлекала к себе внимание не только Ф. И. Шаляпина, но и Григория Пирогова, Л. М. Сибирякова и других высоких басов.
Баттистини к такой тесситуре не был привычен, и исполнение им «На воздушном океане» при несоразмерно густой оркестровке этой арии не достигало должного эффекта, как он сам рассказывал, пока он не догадался петь эту арию в транспонированном виде.
С тщательно расчесанной бородкой, усами, аккуратненько завитыми локонами, скрещенными на груди выхоленными,
<Стр. 166>
нисколько не загримированными руками, в длинной одежде с почти средневековым дамским шлейфом, который волочился по полу, Баттистини в «Демоне» бывал порой почти смешон. И только голос его и несравненное кантабиле, которые буквально обновляли и по-новому раскрывали отдельные фразы в ариях «Не плачь, дитя», «На воздушном океане», «Клятва», заставляли слушателя прощать ему несуразицу его внешнего облика, бросавшуюся в глаза особенно после того, как в роли Демона появился со своим воистину демоническим обликом хороший актер, но по сравнению с Баттистини посредственный певец — Эудженио Джиральдони.
Пожалуй, еще менее удачен был Баттистини в роли Онегина. Привыкнув на сцене к костюмам эпохи Возрождения, к трико, перчаткам с нарукавниками, большим белым воротникам и причудливым головным уборам, к плащу и шпаге, Баттистини почти не знал «фрачных» ролей. Если он надевал фрак в роли Скарпиа, то все же сохранял шелковые штанишки, чулки и пудреный парик, то есть детали костюма более ранней эпохи. Без привычного костюма Баттистини чувствовал себя на сцене как-то сиротливо, точно его вывели не совсем одетым. Так было и в Онегине. Человек плотный, чуть-чуть сутулившийся, Баттистини в роли Онегина выглядел старообразно и был далек от образа Пушкина—Чайковского. Но может быть, еще больше этого зрителем ощущалась неудача его вокального образа.
Партия Онегина либо по-русски взволнованно-лирична по своим эмоциям, либо рассудочна. Но рассудочность Онегина — не рассудочность Жермона («Травиата») или Барнабы («Джоконда»), лиризм Онегина — не лиризм графа ди Луны («Трубадур»). Рассудочность Онегина— не безразличие, лиричность — не слезливость и не вулканическая страстность, на которых выросло искусство Баттистини. В отношении тесситуры в партии Онегина тоже есть не очень удобные для высокого баритона фразы.
Крупный русский певец, за редкими исключениями, будь он трижды резонерствующим персонажем, не может растерять остатки своего теплого сердца и превратить такие места, как сцены с Татьяной в первой и третьей картинах, в формальный доклад, в бездушные реплики на мало интересующую его тему. Итальянец же в первую очередь ищет те певуче-речитативные интонации, которые
<Стр. 167>
лежат где-то посередине между его обычным репертуаром и русским. Баттистини, певец на редкость мягкий, не находил этой золотой середины и применял бездушные, положительно скучные интонации. Разумом, а не сердцем понимая Онегина, он точно боялся показать какое бы то ни было сердечное движение к этой милой, но ему, итальянцу, непонятной Татьяне. А в минуты душевного подъема («Увы, сомненья нет!», «О, не гони, меня ты любишь!») мы слышали замечательное брио, типично итальянское бравурное пение, и в первую очередь сугубо голосистое. В дуэте с Ленским перед дуэлью, в монологе «И вот вам мненье» поэтичная певучесть, которой Баттистини подменял в первом грустное размышление, а во втором — неудовольствие, создавала все же незабываемое впечатление. Но именно эти места подчеркивали и разностильность исполнения.