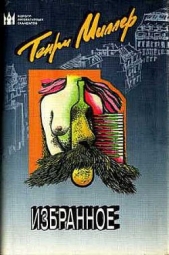Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим

Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим читать книгу онлайн
Убеждения Альфиери определились к 23-м годам: Преклоненіе передъ благосостояніемъ и передъ политическимъ устройствомъ Англіи, ненависть ко всякой солдатчин?, особенно къ милитаризму Пруссіи, презр?ніе къ варварству в?ка Екатерины II въ Россіи, недов?ріе къ легкомысленной, болтливой, салонно-философствующей Франціи и вражда самая непримиримая къ тому духу произвола съ одной стороны, а съ другой - лести, подобострастія и низкопоклонства, которыя, по его словамъ, изо вс?хъ дворовъ Европы д?лаютъ одну лакейскую.Въ силу такихъ чувствъ онъ на родин?, хотя числится въ полку сардинскаго короля, но не несетъ фактически никакой службы; отказывается и отъ дипломатической карьеры. Ч?мъ же наполнитъ онъ свое существованіе? Какое положительное содержаніе внесетъ отрицатель въ жизнь? Онъ ищетъ его. И это-то исканіе, исканіе своего я и своего таланта, а зат?мъ самоутвержденіе этого я творчествомъ и всею жизнью, характерны не только для Италіи 18 в?ка, но для челов?ка вообще и, быть можетъ, для нашего времени въ особенности.Эту общечелов?ческую сторону своей души, хотя и од?тую моднымъ нарядомъ иного в?ка, Альфіери выявилъ въ своей автобіографіи. „Жизнь Витторіо Альфіери изъ Асти, написанная имъ самимъ"
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возвращаюсь къ моему лѣтнемз' убѣжищу Сезаннъ, гдѣ кромѣ моего литератзфнаго аббата былъ еще аббатъ музыкантъ, у котораго я научился бренчать на гитарѣ
ннстрз'ментѣ, созданномъ, чтобы вдохновлять поэтовъ; я чувствовалъ къ нему нѣкоторз’Ю склонность, причемъ прилежаніе мое въ этомъ занятіи совсѣмъ не соотвѣтствовало восторгу, возбуждаемому во мнѣ звуками гитары.
Такимъ образомъ, ни на этомъ инстрзтментѣ, ни на клавесинѣ, на которомъ меня з'чили играть въ дѣтствѣ, я игралъ не выше посредственности, хотя слухъ и музыкальное воображеніе у меня всегда были чрезвычайно развиты.
Итакъ, я провелъ лѣто съ двумя аббатами, изъ которыхъ одинъ своей гитарой разсѣивалъ столь новую для меня тоскз^ серьезныхъ и ревностныхъ занятій, а другой заставлялъ проклинать его французскій языкъ.
Но со всѣмъ тѣмъ для меня это было восхитительное и самое плодотворное время жизни, ибо тз'ТЪ я впервые собралъ самого себя и сталъ работать надъ воспитаніемъ ума и очищеніемъ способностей, заросшихъ мхомъ въ эти десять лѣтъ летаргическаго забытья и преступной праздности. Я принялся переводить и перекладывать въ нтальянскз'ю нроззг „Филиппа" и „Полиника", явившихся на свѣтъ во французскихъ лохмотьяхъ.
Но не взирая на весь мой жаръ въ этой работѣ, трагедіи такъ и остались ползуфранцзгзскими, нолзштальян-скими, подобными горящей бумагѣ, о которой поэтъ говоритъ:
...Ш соіог Ьгипо Сііе поп ёпего апсога, е іі Ьіапсо шиоге.
Въ этихъ трзщолюбивыхъ усиліяхъ переложенія французскихъ мыслей въ итальянскіе стихи, я пришелъ къ намѣренію передѣлать третій варіантъ „Клеопатры". Нѣсколько сценъ изъ нея, написанныхъ по-французски, были прочтены цензору моему, графу Агостино Тана, который больше интересовался драматической ихъ стороной, чѣмъ грамматической; онъ нашелъ, что онѣ сильны и очень красивы, особенно сцена междзу Авгзгстомъ и Антоніемъ; но когда я превратилъ все это въ якобы итальянскіе, вымучен-ные стихи, написанные точно для пѣнія, они показались
ему ниже посредственнаго. Онъ сказалъ мнѣ это въ глаза и я повѣрилъ ему; скажу больше, я почувствовалъ какъ и онъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ поэзіи одѣяніе составляетъ половину ея существа и что въ нѣкоторыхъ родахъ (въ лирическомъ, напримѣръ) форма это все. Въ такой мѣрѣ, что стихи:
Соп Іа Іог ѵапііа сЬе раг регзопа
оказываются выше такихъ, гдѣ
Роззег §етше 1е§аіе іп ѵііе апеііо.
Прибавлю здѣсь, что отецъ ГІачіауди, какъ и графъ Тана, особенно послѣдній, пріобрѣли право на вѣчную мою благодарность за правду, которую я всегда отъ нихъ слышалъ, и благодаря которой встзшилъ на вѣрный писательскій путь. Довѣріе мое къ этимъ двумъ людямъ было таково, что вся моя литературная карьера зависѣла отъ нихъ. По малѣйшему ихъ знакз>- я бросилъ бы въ огонь всякое не одобренное ими произведеніе, какъ и сдѣлалъ со многими стихами, не заслуживавшими исправленія. Если я поэтъ, — я долженъ прибавить: поэтъ
милостью Бога, Пачіауди и Тана. Они были священными моими покровителями въ жестокой битвѣ, которой я долженъ былъ заполнить первый годъ своей литературной жизни. Это была яростная борьба съ франдзгз-скими періодами, со всѣми формами франдзчзской рѣчи, совлеченіе старыхъ одеждъ съ собственныхъ идей и одѣваніе ихъ въ совершенно новыя. Словомъ, я долженъ былъ совмѣстить сознательное изученіе созрѣвшаго человѣка съ усиліями ребенка. Невѣроятный и неблагодарнѣйшій въ мірѣ трудъ, отъ котораго, смѣю утверждать, бѣжалъ бы всякій, кого не пожирало бы столь сильное пламя, какимъ охваченъ былъ я.
Закончивъ переводъ этихъ двз^хъ трагедій въ плохой прозѣ, я принялся изз’чать стихъ за стихомъ въ хронологическомъ порядкѣ нашихъ лучшихъ поэтовъ, отчеркивая на поляхъ маленькими перпендикулярными черточками мысли, выраженія и созвз’чія, доставлявшія мнѣ большее или меньшее зщовольствіе. Находя Данте еще
слишкомъ труднымъ, я взялъ Тассо, котораго до сихъ поръ не раскрывалъ. Я читалъ его съ такимъ кропотливымъ прилежаніемъ, заставляя себя разыскивать въ немъ тысячи оттѣнковъ, тысячи противорѣчивыхъ мыслей, что послѣ трз^да надъ десятью строфами, я не отдавалъ з-же себѣ отчета, что прочелъ, и 43'вствовалъ себя болѣе З'сталымъ и истощеннымъ, чѣмъ сочиняя собственные стихи. Но понемногу приспособляясь къ такого рода чтенію, я прочелъ „Освобожденный Іерусалимъ" Тассо, Аріостовскаго „Орландо", затѣмъ Данте, безъ комментаріевъ, и, наконецъ, Петраркз% овладѣвая всѣмъ этимъ съ одного раза, и покрывая замѣтками страницы классиковъ. О пониманіи чисто историческихъ трзщностей Данте я мало заботился; но когда не понималъ какого-нибзщь выраженія, оборота рѣчи или отдѣльнаго слова, я готовъ былъ на какую угодно работу для разъясненія загадки. Часто приходилось ошибаться, но тѣмъ болѣе гордъ я былъ, когда изрѣдка задавалось добиться истины самомз-.
При этомъ первомъ чтеніи мой умъ, такъ сказать, страдалъ несвареніемъ прочитаннаго, и я совсѣмъ не З'сваивалъ истиннаго дз'ха этихъ четырехъ великихъ свѣточей. Но потомъ пріучился вникать въ ихъ смыслъ, разбираться, наслаждаться ими и, можетъ быть, отчасти походить на нихъ самомз
Петрарка казался мнѣ еще болѣе труднымъ, чѣмъ Данте, и сначала нравился меньше. Ибо трзщно почзгв-ствовать настоящее очарованіе поэта, если прилагаешь з'си-лія къ самому пониманію его. Но предполагая писать бѣлымъ стихомъ (ѵегзо зсіоііо), я искалъ для себя образца въ этомъ родѣ поэзіи. Мнѣ посовѣтовали переводъ Стація, сдѣланный Бентиволіо.
Я читалъ и вдумывался въ него съ чрезвычайнымъ рвеніемъ, дѣлая помѣтки. Но стрзгктзфа стиха показалась мнѣ нѣсколько вялой для трагическаго діалога. Дрзгзья, руководившіе мною, посовѣтовали приняться за Оссіана, переведеннаго Чезаротти.
По первомз’’ впечатлѣнію его бѣлые стихи понравились,.
поразили и захватили меня. Мнѣ показалось тогда, что съ легкимъ измѣненіемъ они могутъ служить отличной моделью для стихотворнаго діалога. Мнѣ хотѣлось также прочесть нѣсколько трагедій, итальянскихъ или переведенныхъ съ французскаго. Я надѣялся выяснить по нимъ свой стиль. Но читать ихъ оказалось невозможно. Такъ утомителенъ, вульгаренъ, плосокъ былъ ихъ стихъ и тонъ, не говоря уже о вялости мысли. Къ менѣе плохимъ принадлежали переводы съ французскаго Парадизи и оригинальная „Меропа“ Маффеи. Послѣдняя мѣстами нравилась мнѣ своимъ стилемъ; но многаго ей не хватало, чтобы быть тѣмъ совершенствомъ, о которомъ я мечталъ.
Часто я спрашивалъ себя: „Почему нашъ божественный языкъ, такой мз'жественный, такой крѣпкій и гордый въ устахъ Данте, линяетъ и становится безполымъ въ трагическомъ діалогѣ? Почему стихъ Чезаротти, звучащій съ такимъ блескомъ въ Оссіанѣ, превращается зг него въ вялое краснорѣчіе, когда онъ переводитъ Вольтеровскую „Семирамиду11 или „Магомета?” Почему великолѣпный маэстро бѣлаго стиха Фругони, въ переведенномъ имъ „Радамистѣ11 Кребильона, настолько ниже Кребильона и даже себя самого? Въ этомъ виноватъ кто угодно, только не нашъ языкъ, такой гибкій и разнообразный въ формахъ. Но никто изъ моихъ дрзгзей и учителей, къ которымъ я обращался за разрѣшеніемъ сомнѣній, не помогъ мнѣ въ этомъ. Добрѣйшій Пачіауди совѣтовалъ мнѣ не пренебрегать внимательнымъ чтеніемъ прозы, которз'ю онъ называлъ кормилицей стиха. Припоминаю, что однажды онъ принесъ мнѣ „Галатео1' Казы, совѣтз^я поразмыслить надъ оборотами его чистѣйшей, безъ малѣйшей примѣси чего-либо францзтзскаго, тосканской рѣчи. Въ дѣтствѣ я ненавидѣлъ этзг книгу — (какъ это слз’чается со всѣми нами), мало понимая ее, и не сумѣлъ цѣнить; теперь я едва сдержался, заявленный этимъ ребяческимъ или педантскимъ совѣтомъ. Все же развернзглъ злополучнаго „Галатео11, хотя и неохотно. Но наткнувшись на первое
„Сопсіо55Іасо5асЬе“, которое тянетъ за собой безконечный хвостъ насыщеннаго и прѣснаго періода, я пришелъ въ такую ярость, что вышвырнулъ книгу въ окно, завопивъ не своимъ голосомъ: „Что за жестокая, гнусная необ