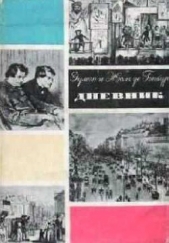Дневник. Том 1

Дневник. Том 1 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Остальное же: диалоги, типы, интрига — все условно. Стену вы
видите и видите на ней тень героя, а сам герой ускользает,
442
стушевывается, превращается в фальшивую и неопределенную
фигуру. Громадный недостаток этого жанра в слишком густо
положенных красках, — пейзажем, домом, жилищем, костюмом
заслоняется сам человек, платьем — его типические черты, те
лом — его душа.
Понедельник, 9 ноября.
Обед у Маньи. Готье развивает свою собственную теорию:
человек не должен показывать, что чем-то затронут, — это по
зорно и унизительно; не следует проявлять никакой чувстви
тельности, особенно в любви, — чувствительность в литературе
и искусстве есть нечто второсортное. В таком парадоксе, мне
кажется, звучит некоторая личная заинтересованность его ав
тора, желание оправдать перед самим собою отсутствие в его
книгах всякого сердечного чувства... < . . . >
23 ноября.
Мы едем к Мишле, с которым еще никогда не встречались,
поблагодарить его за очень лестный отзыв о нас в его «Регент
стве».
Это на Западной улице, у Люксембургского сада; большой
дом мещанского вида, почти как дом для рабочих. На четвертом
этаже одностворчатая дверца, как в каморках мелочных торгов
цев. Нам открывает служанка, докладывает о нас, и мы сразу
входим в маленький кабинет.
Уже стемнело. Лампа под абажуром позволяет различить
сборную обстановку: мебель красного дерева, несколько значи
тельных художественных вещей и зеркала в резных рамах. Все
погружено в тень и похоже на домашнее убранство какого-ни
будь буржуа, завсегдатая аукционов. Около бюро, на котором
стоит лампа, сидит на стуле спиною к окну жена Мишле, жен
щина неопределенного возраста, с довольно свежим лицом; она
держится прямо, в немного застывшей позе, совсем как бух
галтерша протестантской книжной лавки. Мишле сидит по
средине зеленого бархатного дивана, весь обложенный подуш
ками ручной вышивки.
Он похож на свою же историю: все нижние части на свету,
все верхние — в тени. Лицо — только тень, вокруг которой бе
леют волосы и из которой исходит голос... профессорский,
звучный голос, рокочущий и певучий, который, если можно так
выразиться, красуется, то поднимается, то опускается и создает
как бы непрерывное торжественное воркование.
443
Он «восхищается» нашим этюдом о Ватто; говорит об ин
тересной отрасли истории, которая еще не написана, — истории
французской меблировки. И с живыми поэтическими подроб
ностями рисует он жилище XVI века в итальянском стиле, с
широкими лестницами посредине дворца; потом — большие ан
филады, ставшие возможными после исчезновения внутрен
них лестниц и введенные в особняке Рамбулье; жилища в не
удобном и варварском стиле Людовика XIV, чудесные апарта
менты откупщиков, по поводу которых Мишле задает себе
вопрос, что породило этот стиль — деньги ли откупщиков, ход
ли времени или же вкус рабочих; наконец, современную квар
тиру, которая даже в самых богатых домах кажется суровой,
пустой, нежилой.
Он продолжает: «Вот вы, господа, — вы наблюдатели. Напи
шите такую историю: историю горничных... Не говорю о гос
поже де Ментенон, но вспомните хотя бы мадемуазель де Лоне...
или Жюли у госпожи де Грамон, на которую Жюли имела такое
большое влияние, в особенности в деле Корсики... * Гос
пожа дю Дефан говорит где-то, что только два человека
были к ней привязаны: д'Аламбер и ее горничная... Это
обстоятельство очень любопытное и существенное — роль при
слуги в истории... Влияние мужской прислуги было значительно
меньше...
Людовик XV? Умный человек, но ничтожество, ничтоже
ство!..
Великие явления нашего времени почти не поражают, они
ускользают, их не замечаешь: не видишь Суэцкого перешейка,
не видишь, что пробиты туннели в Альпах... Железная до
рога — в ней не замечаешь ничего, кроме движущегося па
ровоза и облачка дыма... а ведь это дорога в сто лье! Да! Не за
мечаешь размаха великих достижений нашего времени... Я пе
ресекал однажды Англию в ее самом широком месте, от Иорка
до... Был в Галифаксе. Там в деревне — тротуары, трава там в
таком же прекрасном состоянии, как тротуары, и вдоль них
пасутся овцы, а все это освещается газом!
И вот еще одна странная вещь: заметили ли вы, что в на¬
стоящее время знаменитые люди не отличаются значитель
ной внешностью? Посмотрите на их портреты, на их фотогра
фии. Нет больше красивых портретов. Замечательные люди уже
более не выделяются. В Бальзаке не было ничего характерного.
Догадаетесь ли вы по внешности Ламартина, что он автор таких
поэм? Невыразительная голова, глаза угасли... сохранилась
только элегантная осанка, на которой не сказался возраст...
444
А все потому, что в нас теперь слишком много наслоений. Да,
безусловно, гораздо больше наслоений, чем было прежде. Все
мы гораздо больше заимствуем теперь у других, и наше лицо
в результате этих заимствований теряет своеобразие. С каждого
из нас можно скорее писать портрет какой-то определенной
группы людей, а не наш собственный портрет...»
Минут двадцать он развивал эти идеи — и говорил все тем
же голосом... Мы поднялись. Он проводил нас до двери, и тогда,
при свете лампы, которую он держал в руке, этот величайший
историк-мечтатель, этот великий сомнамбула прошлого, этот
великолепный собеседник, которого мы только что слышали,—
па мгновение предстал перед нами в виде худенького старичка,
тщедушного человечка, застенчиво запахивающего на животе
свой редингот и обнажающего в улыбке большие зубы мерт
веца; у него выцветшие глазки, около щек болтаются седые
полосы; ни дать ни взять какой-нибудь мелкий рантье, неприят
ный старый ворчун.
У Маньи, за обедом, я слышу, как папаша Сент-Бев, на
гнувшись к Флоберу, говорит ему: «Ренан недавно был на обеде
у госпожи де Турбе. Он был очень мил... просто очарователен...»
Даже здесь, за нашим столом, среди скептиков, это вызвало
некоторое возмущение. Из нас никто не покушается ни разру
шать, ни закладывать основы религии, ни сочинять Христа, ни
опровергать его сочинителей, никто не надевает на себя обла
чения апостола — и все мы бываем иногда у г-жи де Турбе. Ну и
прекрасно! Но чтоб эта разновидность проповедника-философа
обедала там, обедала у Жанны! Вот так ирония нашего вре
мени! Поистине забавно.
Выйдя на улицу, Готье медленно бредет с нами, покачи
ваясь, как слон, которому после длительного переезда по морю
вспоминается бортовая качка, — это теперешняя походка Готье;
он счастлив, он польщен, как новичок, теми статьями, которые
недавно посвятил ему Сент-Бев, но жалуется, что, исследуя его
поэзию, тот ничего не сказал об «Эмалях и камеях» *, в кото
рые Готье больше всего вложил самого себя.
Он жалуется, что критик так усердно выискивает в его
произведениях что-нибудь любовное, сентиментальное, элеги
ческое, все, чего сам Готье не переносит. Он говорит, что, выси
дев тридцать три тома, он, конечно, принужден был считаться
со вкусами буржуазии и кое-где вкрапливать чувствитель
ность, кое-где — любовь. Однако Готье прибавляет:
— Две подлинные струны моего творчества, две самые
445
сильные ноты — это буффонада и мрачная меланхолия, мне
осточертело мое время, и я стремлюсь как бы переселиться в
другие страны.
— Да, — соглашаемся мы, — у вас тоска обелиска *.
— Да, это так. Вот чего не понимает Сент-Бев. Он не пони
мает, что мы с вами, все четверо, — больны: у нас только раз