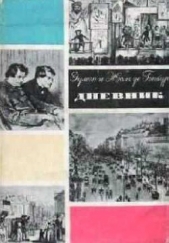Дневник. Том 1

Дневник. Том 1 читать книгу онлайн
Авторами "Дневников" являются братья Эдмон и Жюль Гонкур. Гонкур (Goncourt), братья Эдмон Луи Антуан (1822–1896) и Жюль Альфред Юо (1830–1870) — французские писатели, составившие один из самых замечательных творческих союзов в истории литературы и прославившиеся как романисты, историки, художественные критики и мемуаристы. Их имя было присвоено Академии и премии, основателем которой стал старший из братьев. Записки Гонкуров (Journal des Goncours, 1887–1896; рус. перевод 1964 под названием Дневник) — одна из самых знаменитых хроник литературной жизни, которую братья начали в 1851, а Эдмон продолжал вплоть до своей кончины (1896). "Дневник" братьев Гонкуров - явление примечательное. Уже давно он завоевал репутацию интереснейшего документального памятника эпохи и талантливого литературного произведения. Наполненный огромным историко-культурным материалом, "Дневник" Гонкуров вместе с тем не мемуары в обычном смысле. Это отнюдь не отстоявшиеся, обработанные воспоминания, лишь вложенные в условную дневниковую форму, а живые свидетельства современников об их эпохе, почти синхронная запись еще не успевших остыть, свежих впечатлений, жизненных наблюдений, встреч, разговоров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
кивается ласковой напевностью легкого русского акцента, на
поминающей певучую речь ребенка или негра.
Скромный, растроганный овацией, устроенной ему сидя
щими за столом, он рассказывает нам о русской литературе,
которая вся, от театра и до романа, идет по пути реалистиче
ского исследования жизни. Русская публика большая любитель
ница журналов. Тургеневу и вместе с ним еще десятку писате
лей, нам неизвестных, платят по шестисот франков за лист;
сообщая нам об этом, он покраснел. Но книга оплачивается
плохо, едва четыре тысячи франков.
Кто-то произносит имя Гейне, мы подхватываем и объяв
ляем, что относимся к нему с энтузиазмом. Сент-Бев, который
хорошо знал Гейне, утверждает, что как человек Гейне — ничто
жество, плут; но потом, видя общее восхищение, Сент-Бев бьет
отбой, умолкает и, закрыв лицо руками, прячется так все
время, пока превозносят Гейне.
Бодри приводит острое словцо Генриха Гейне, уже лежав
шего на смертном одре. Обращаясь к жене, которая тут же
рядом молила бога помиловать его, он сказал: «Не бойся, доро
гая, он меня помилует, ведь это его ремесло». < . . . >
1 марта.
Сегодня последнее воскресенье с Флобером, который снова
уезжает в Круассе, чтоб зарыться там в работу.
Появляется как-то господин, тонкий, немного чопорный, то
щий, с редкой бородкой, ростом не велик, не мал, какой-то
сухарь, за очками синеют глаза, лицо истощенное, немного
бесцветное, но оживляется при разговоре; когда он вас слушает,
его взгляд выражает благожелательность, речь спокойная,
гладкая, он как бы роняет слова и при этом открывает зубы —
это Тэн.
Как собеседник — это нечто вроде изящного воплощения со
временной критики: очень знающий, любезный, немного педан
тичный. По существу своему — учитель, следы этой профессии
неистребимы, — но его спасает большая простота, расположение
к людям, внимательность воспитанного человека, умеющего
мило слушать других.
409
Он мягко посмеивается вместе с нами над «Ревю де
Де Монд», где какой-то швейцарец * берется поправлять кого
угодно и груб со всеми писателями. Рассказывает нам хоро
шенькую историю со статьей г-на де Витта, зятя г-на Гизо.
Потребовалась целая баталия, чтоб пропустили первую фразу
статьи: «Мода нынче пошла на мемуары». Бюлоз ни за что
не хотел, чтобы в «Ревю де Де Монд» статья начиналась сло
вом «мода». Даже Тэну приходится иногда спорить, чтоб его
не сокращали и не переделывали; ему указывают те места,
«где должны быть высказаны общие положения...». Странное
и постыдное явление — эти унизительные условия, которым
подвергаются самые крупные, самые известные, самые значи
тельные писатели XIX века, такие, как Ремюз а, Кузен. Что ни
говори, а чувство собственного достоинства у писателя поуба
вилось. Демократия его принижает. <...>
Воскресенье, 8 марта.
< . . . > У привратника, совершившего преступление, угры
зения совести, должно быть, ужасны. Ночами сознание винов
ности должно пробуждаться в нем при каждом звонке. На эту
тему можно было бы написать что-нибудь страшное или при
чудливое, какую-нибудь балладу в духе По. < . . . >
Равенство — вот слово, написанное на титульном листе
Гражданского кодекса, упоминаемое во всех законах, во всех
социалистических программах. Что же может быть несправед
ливее и ужаснее неравенства в отношении денег, неравенства
в отношении военной службы? Имеется у вас две тысячи фран
ков — и вы посылаете кого-то на смерть вместо себя; нет у вас
этих денег, вы — пушечное мясо. <...>
Суббота, 14 марта.
Обед у Маньи.
Сегодня здесь обедает и Тэн. У него милый, приветливый
взгляд из-за очков; какая-то сердечная внимательность, не
сколько вялая, но изысканная любезность, говорит свободно,
много, образно, со множеством ссылок на историю и точные
науки; в нем чувствуется молодой ученый, умный, даже остро
умный, очень озабоченный, как бы не впасть в педантизм.
Говорят об интеллектуальном застое у нас в провинции,
сравнивают с английскими графствами, где существуют актив
ные объединения, или с немецкими городами второго и третьего
порядка; говорят о Париже, который все поглощает, все к себе
410
притягивает и все создает сам; говорят о будущем Франции,
которая неизбежно кончит кровоизлиянием в мозг. «Париж
производит на меня впечатление Александрии в последний пе
риод ее существования, — говорит Тэн. — Правда, у ее ног ле
жала долина Нила, но это была мертвая долина».
Когда заговорили об Англии, я слышал, как Сент-Бев
откровенно признался Тэну, что ему противно быть фран
цузом.
— Но раз вы парижанин, то вы не француз, а только пари
жанин!
— О нет, все равно всегда остаешься французом, и, значит,
ты бессилен, ты — ничто, ты не идешь в счет... Страна, где на
каждом шагу полицейские... Я хотел бы быть англичанином,
он по крайней мере что-то собой представляет... Впрочем, во
мне течет немного этой крови. Я, знаете ли, родился в Булони,
моя бабушка была англичанка.
Разговор переходит на Абу, которого Тэн защищает как
своего старого товарища по Нормальной школе.
— Странно! Этот тип, — говорит Сент-Бев, — восстановил
против себя три великие столицы: Афины, Рим и Париж *. Вы
видели, что делалось на представлении «Гаэтаны»? Он по мень
шей мере бестактен...
— Но этому поводу вы как будто никогда не высказыва
лись, — возражают ему.
— Нет... Прежде всего он очень популярен, а кроме того,
он еще жив и даже слишком жив. С виду я храбр, а по суще
ству очень робок.
Потом начинается великий спор о религии, о боге, неизбеж
ный спор между интеллигентными людьми, который сопутст
вует кофе и возникает за столом одновременно с газами, вы
званными пищеварением. Я вижу, что Тэн, по своему темпера
менту, очень склонен к протестантизму. Он объясняет мне, в
чем преимущество протестантизма для людей интеллектуаль
ных: оно — в эластичности его обязательных догм, в том, что
каждый может толковать свою веру сообразно с природой своей
души. И кроме того, для Тэна — это руководство в жизни:
честь заменяется совестью. Тут Сен-Виктор и мы оба отвер
гаем протестантизм и объявляем, что женщина-протестантка
годна только для колонизации. Тэн кончает тем, что говорит
нам: «Видите ли, по существу это вопрос чувства. Все музы
кальные натуры привержены протестантизму, а натуры, склон
ные к изобразительному искусству, придерживаются католи
чества».
411
28 марта.
Обед у Маньи.
Новенький, новопосвященный, — Ренан. У Ренана — телячья
голова, покрытая красными пятнами и затвердениями, как яго
дицы у обезьяны. Это дородный, приземистый человек, плохо
сложенный, голова ушла в плечи, что придает ему вид немного
горбатого; похож на животное, на что-то среднее между
свиньей и слоном, — глаза маленькие, огромный нависший нос,
лицо, испещренное прожилками, как мрамор, одутловатое, по
крытое пятнами. У этого болезненного существа, нескладного,
уродливого и отталкивающего, — фальшивый и пронзительный
голосок.
Разговор идет о религии. Сент-Бев говорит, что язычество
в самом начале было чем-то очень красивым, а потом стало
настоящей гнилью, дурной болезнью. Христианство же явилось
ртутью против этого заболевания, но его приняли в слишком
большой дозе, и теперь надо лечиться от последствий лечения.
Обращаясь ко мне, он рассказывает о честолюбивых мечтах
своего детства; о том, чт о он переживал, когда во времена Им