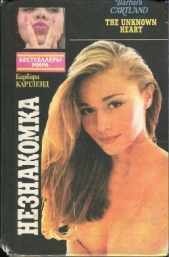Евгеника

Евгеника читать книгу онлайн
«Евгеника» – это история поиска, роман-путешествие, во время которого герои идут к себе и своей любви. Отдельный слой романа составляют сюрреалистические и мистические мотивы: сны как предвестники, как выходы на другие уровни действительности играют в произведении сюжетообразующую роль. Мир романа заселён разнообразными персонажами, как осязаемыми, будто выписанными крупными яркими мазками, так и призрачными, явленными в пространстве одной характерной деталью, либо выступающими в качестве портативного Deus ex machina.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так же и теперь он познавал боль за разными масками. Обиды, причинённые им, обвинения, брошенные напоследок в гневе, безмолвные неподнятия трубки – всё возвращалось к нему, заставляя задыхаться бессонными ночами и тревожно ждать рассвета со слабой надеждой, что к утру отпустит. Какие бы мучения он ни чувствовал, суть оставалась одна: ему было просто больно.
Он вырастал могучим дубом несколько веков в гасконском лесу, среди таких же, как он. Из года в год он наращивал слои и затвердевал корой. Он мог вспомнить любое лето и любой восточный ветер и высасывал все живительные соки корнями у земли. Приходили лесорубы и забирали тех, кто рос далеко, потом тех, кто ближе. Пока очередь доходила до него, в грёзах ему виделось будущее: он, гордой мачтой корабля, разбивает ледяную гладь океана и сражается с бушующей стихией. А потом его срубили и, не глядя на его годовые кольца, не считаясь с его мечтами и планами, наделали дубовых бочек и поставили в тёмный сырой погреб, хранить и отдавать свой аромат тому самому Арманьяку, который сейчас был заперт в его бокале.
Он часто вспоминал квартиру Майи на Лесной, завязывая шнурки и отражая в зрачках те фиолетовые ночи, когда сырыми липкими почками они переплетались, срастаясь в одно тугое дерево. Он лежал и гладил её золотые волосы, которые беззвучно утекали под одеяло и грелись, где ещё недавно грелся он. Ему нравилась беспечность её тихих слов, которая не обещала нежность назавтра и не заставляла давать пустые клятвы и океаны обещаний в ответ. Она вставала поздно, тянула за собой перламутровое одеяло и обвивалась подобно греческой богине, и не было понятно, где кончается кожа и начинается тёплая ткань, разгорячённая её сердцебиением. Запах колумбийского кофе уносил его в горы, докуда не долетали птицы и можно было наполнить карманы молочными облаками, что он и делал, а возвращаясь, небрежно разбрасывал скомканную вату по полу. Потом она наклонялась и собирала пух, а он наблюдал и заново вожделел гладить её волосы и греться там, где потом будут греться её белёсые локоны.
Порой он забывался и думал, что больше ничего не помнит. Что та судьба, которую он предал, намертво забита в глухой коробке и заживо закопана глубоко в землю. И как только слабые отголоски спокойствия поселялись на его плече, откуда ни возьмись, из сокровенных закоулков комнаты, из хвостатых нот прежних мелодий, из тонких женских запястий и длинных пальцев появлялась былая обречённость и горечь от того, что ничто не проходит бесследно. Время, обязанное лечить душевные и телесные раны, отворачивалось от его стенаний. И глядя на других людей, жадно пивших пролетавшее время, он молча давился им, считая дни, когда же неиссякаемый поток всё-таки высохнет, лишив его, наконец, бесцельных проклятых минут.
Под утро он обретал умиротворение, ощущая, как сквозь многоликие недели его руки снова переплетаются с её руками, и краешек губ приподнимался, намереваясь улыбнуться наступающему дню. Но, открыв глаза, он разочаровывался, видя перед собой лицо Марты, преданно лежащей рядом и выжидающей, когда его сердце растает ото льдов равнодушия. Он становился чужим миру, перестал интересоваться, что в нём есть и что происходит, чужим ей, хоть никогда родным и не был, и чужим самому себе. Он на глазах терял свою синтонность, и его душа становилась однотонным шёлковым лоскутом.
Одиночество заполонило его сердце, и он всё чаще стал засыпать задолго до того, как приходила Марта. Он реже стал знакомиться и брать номера телефонов, ещё реже вспоминал перезванивать, если брал. Дни приобрели пресный вкус, но пресный не отсутствием вкуса, а приторной, не прекращающейся горечью.
«Вот костюмчик и сел», – иронизировал он. Но это скорее была похоронная роба, окрашивавшая всё вокруг в чёрно-белое. Игры в верю-не верю с другими людьми довели его до того, что, обманывая остальных, он перестал верить сам себе.
Иногда он напивался вдрызг и приползал домой под утро, натаскавшись по кабакам и не помня ночных приключений. Весь последующий день его рвало, а Марта смиренно ходила за ним и поила водой с лимонным соком. В минуты облегчения он выказывал ей осколки благодарности, убивавшие её мучительней, чем его равнодушие, тем, что за благодарностью не скрывалось ничего; это была благодарность в чистейшем виде, без примеси уважения, доброты или симпатии. Порой он садился у окна и часы напролёт смотрел вдаль, устремляя глаза в небо, в котором летал упущенный кем-то воздушный змей, зацепившийся за провода.
Как-то она попросила его рассказать, что он там видит. В ответ он прикрыл веки и, сглотнув, прошептал: «Ничего». Он сам превращался в ничто, и теперь ему было не от кого и некуда бежать. В этой конечной точке, в пункте назначения, к которому он стремился последние месяцы, оказалось пусто и холодно.
«А с ней что случилось?» – задала Марта очередной вопрос.
Он, удивившись, так растерялся, что не разозлился на её настырность, и задумчиво произнёс:
«Не знаю. Наверное, я её убил». И, где-то в другой реальности, слёзы потекли по его небритым щекам, но в этой он оставался внешне равнодушен, ни одна ресница не дрогнула от этих слов.
Он действительно порой представлял, как после его отъезда она металась по дому, не находя себе места от волнения, как, ближе к вечеру, отчаявшись его дождаться, ехала искать на вокзал. Как, проезжая мимо того места на обочине, что-то больно кольнуло в её груди, а в сознании пронеслись те минуты, в которые он предавал её. И как медленно стало разрываться сердце, как реки обиды хлынули наружу, как она в гневе стукнула кулаком по рулю и поклялась ненавидеть его больше, чем любила.
В другие дни ему казалось, что она всё же доехала до вокзала, и, почувствовав в воздухе предательство, не вынесла его тяжести и бросилась под поезд.
Вариацией её исхода было возвращение с вокзала поздней ночью. Она, с обесцвеченными от слёз глазами, падала на мокрый песок без сознания, а наутро, мёртвую, прибой ласкал её нежной пеной.
В глубине души он надеялся, что всё же ей не хватило духу свести счёты с жизнью из-за его подлости, но твёрдо был уверен, что душа её растерзана, и что даже если он вернется и впервые в жизни попросит прощения, покается, будет стоять на коленях и вымаливать её снисхождение, прежнюю любовь ему не вернуть никогда. Он рисовал в воображении, как она встрепенётся, увидев его вновь, как внутри забурлит давно не просыпавшаяся радость от нахождения поблизости, и как она постарается изо всех сил скрыть, что всё же счастлива от его появления. Растрогавшись, он упадёт ниц перед её ногами, закроет руками преступное лицо, а она подойдёт и утешит его. Долгие часы он засыпал с такими мыслями, постепенно выращивая идею поставить на кон всё, поехать обратно и с повинной явиться к Майе.
В начале новой зимы он надел белую рубашку, захватил старую иранскую монету и собрался туда, откуда позорно бежал в конце прошлой зимы. В прихожей стояла Марта, скрестив руки на груди. Он не знал, что сказать, не знал, стоит ли просить её уйти из его дома, в любом случае получалось некрасиво и подло. Она молчала и ни о чём не спрашивала, она не давала возможности соврать, ответив какую-то глупость, сообразить, в какую степь увести её размышления. Она стояла и ждала, что он скажет сам.
«Я ухожу».
«Я вижу».
«Прости» вертелось у него на языке, но он смолчал. Это было не в его правилах, впрочем, как и уходить на глазах покидаемой им женщины. Наверное, ему самому было бы легче пролезть сквозь то мифическое игольное ушко, сквозь которое обычно пролезают то лошади, то верблюды, чем заставить уста произносить шесть элементарных звуков, которые бы ей ласкали слух, но кололи бы его самолюбие. Да и само слово было из числа тех, что требовали нечеловеческих усилий для воспроизведения; фрикативные напрягали скулы и рвали горло пополам, цепляясь за стенки и сопротивлялись появлению на свет. Он уже было сомкнул губы для первого «П», но не смог пересилить многолетнюю тренировку избегать просьб о прощении и вытянул их для последнего поцелуя.