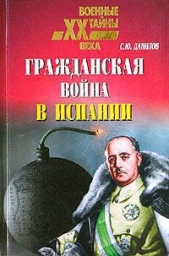Мертвые сыновья

Мертвые сыновья читать книгу онлайн
«Мертвые сыновья» — одно из лучших произведений известной испанской писательницы Аны Марии Матуте. Это грустная и умная книга о современной Испании и ее людях. Яркие психологические образы героев, богатый колоритный язык характеризуют этот роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Ты не можешь любить меня», — сказал он ей однажды. Он-то ведь был другой: неудачник. «Что за глупости, люблю, конечно, — сказала она. — Люблю, правда». Это было самой лучшей чертой Вероники. Отсутствие грез, лжи во спасение или в оправдание. Вероника принимала жизнь такой, как она есть, всегда говорила правду и знала, чего хочет. Такова была Вероника во всем: уверенная, без задних мыслей, решительная. У нее хватало твердости порвать все связи с прошлым. Даже воспоминания детства не имели над ней власти. Она знала, что делает, когда купалась в ледяной воде горных рек, едва начинался май. Даниэль вспоминал ее тело, сверкающее, как дикий плод, налившийся соком на солнцепеке. Расплетенные косы падали на округлые плечи, еще хранившие загар прошлого лета. На концах кос ветер завивал волосы кольцами, золотыми, как спелая рожь. Вся Вероника была золотистой, от густых длинных волос до последнего ноготка на ногах. Золотистым был ее лоб, маленькие груди, формой напоминавшие половинки апельсина, ноги, бесстрашно рассекавшие по утрам ослепительно зеленую воду. Вероника знала, что делает, она не признавала ни выдуманных добродетелей, ни выдуманных грехов. За ее кротостью стояла спокойная уверенность в себе. Ее любовь была прямолинейной, неподкупной — до гроба. Вероника никогда не жаловалась. Она пристально смотрела на тебя и говорила «да» или «нет». Никогда не колебалась. Было в ней упорство Корво, смелость, простота.
●
Можно не сомневаться, что и смерть она приняла так же, как жизнь: как нечто безусловное, неотвратимое. Смерть пришла в свой черед, как жизнь, любовь, материнство. «Вероника, Вероника». Даниэль Корво оторвал взор от небосвода. Ранняя смерть избавила Веронику от мстительности и злобы, от разнузданных страстей. Веронику миновал час мятежа, час героизма бунтарей. Она во все глаза смотрела на возлюбленного и шла за ним не раздумывая. Так исполнялись все ее желания. «Вот почему образ ее всегда будет прекрасен. Прекрасен в своей безмятежности, простоте. Вот почему она обрела бессмертие. А мне в удел достались ненависть и горечь; буйное счастье, воодушевление, вера; безрассудная любовь, отчаяние, равнодушие. Да, под конец — равнодушие». («Когда ты будешь одинок… Когда почувствуешь, что одинок…») Что за бессмысленные слова, теперь. Веронику миновало смехотворное зрелище собственного сердца — опустошенного, нелепого. Миновало худшее из одиночеств — одиночество пропащего человека.
●
«Бродит в лесах, как волк». Одинокий, загнанный, как волк средь зимних сугробов, воющий от голода. Как волк.
●
Эта полная луна посреди неба доводила до исступления сторожевых псов Энкрусихады. У хижины арендаторов старый пес Солнышко глухо рычал, выкатив глаза, похожие на темные сливы. Лай собак глубоко западал в душу Херардо Корво — долгим, гулким эхо, как от брошенного камня. Когда в лунные ночи выли сторожевые псы, Херардо Корво страдал бессонницей и с яростью распахивал окна — с бессильной яростью, накипевшей на душе. Луна заливала серебром кровать. Точеные столбики черного дерева, нелепый полог, словно у короля или епископа. Резким движением Херардо Корво сбросил с себя простыню и босиком, грузно спрыгнул на пол; шея свернута набок, будто устала носить голову. Псы выли на луну, «потому что луна ведьма или злая колдунья». (В детстве у Херардо была старая няня, крестьянка. Тыкая пальцем в луну, она рассказывала дурацкие сказки о рыцарях, смывавших обиды кровью, — не прощавших врагам, нет.) Херардо Корво настежь распахнул створки.
Внизу под окном темнела земля. Единственное, что не менялось с годами — как и он сам. «Убожество, нищета, мерзость». Херардо сплюнул. «Вот развалины моей жизни… О, по какому праву время уносит облачком сухой пыли жизнь, которая была богатой и величавой? Землю, которая была собственностью рода? Звезды, которые ему принадлежали?» Как воды реки, протекли те, кто умел жить, наслаждаться. Остался мир трусов и глупцов, грязный, скаредный мир тупой работы и грубой пищи, скверного вина, анисовой водки из кабака, мелких ничтожных пороков — без величия, без размаха. Лунный свет ударял в глаза Херардо, и, как сторожевые псы, он приходил от него в бешенство. В груди пробуждался протяжный вой злобы и страха, бессилия. «Остался мир гороховой похлебки да латаной одежды, людей, которые поклялись извести нас, которые вернулись теперь и торчат там, наверху, с ненужным ружьем в руках. Мерзость и трусость, подведенные от голода животы, забвение». (К какой мете несутся шальные пули, речное половодье, лесные пожары? Куда метит людская ненависть?) Херардо Корво полез в шкаф за анисовой — скрипнула дверца, в зеркале отразилась луна. «Даниэль ненавидел меня, он меня вынул из петли. Будь прокляты руки, принесшие меня сюда!» Херардо жадно опрокинул рюмку — густая блестящая капля скатилась по подбородку на шею. «Глупец! Хотел отомстить моему времени, времени Корво, времени долгих шумных вечеров, когда в доме полно было и слуг и серебра, времени моего расцвета, моей силы. Хотел отомстить за обиды соблазненных мной женщин, брошенных детей; отомстить за мое величие, за радость, упоение жизнью. Отомстить за нищету, окружавшую меня. За униженных и погубленных мною. И вот он там, наверху, с немым бесполезным ружьем сторожит мои леса, обломки моего состояния — все еще мои леса, до сих пор. Трус. Глупец. Личина, а не человек, живое пугало, водруженное на горе». Херардо еще хлебнул анисовой и расхохотался. Смех его походил на тявканье старого шелудивого пса по кличке Солнышко — там, за тополями. «Надо мной ты верха не взял. Ни над моим временем. Мое время еще крепко держится в седле, оно со мной неразлучно».
Куцый спал, свернувшись калачиком в ногах хозяина.
Куцый спрыгнул с койки и метнулся к окну. Человек приподнялся. Пес лаял в ночь, на луну, которая бесстрашно, дерзко поднималась над хижинами, где дремали женщины с детьми, бродячие псы и надежда. В лунном свете непривычно для глаз белели камни ущелья. Диего Эррера сел на кровати — на солдатской койке с жестким волосяным тюфяком, на койке, застланной грубыми желтыми простынями и одеялом, где виднелась черная метка. «О господи, какая ночь!» Желания умирали, не успев родиться, как дети, проклятые в материнском чреве. «Долги, томительны, чарующи ночи человека». В этой конуре, на убогой койке не избежать гнетущих мыслей: «Не пронзай сердца моего, о господи!» Было в этой ночи что-то душное, знойное, хотя в воздухе уже носился запах близкой осени. «Владыка небесный, я ничего не свершил, ничего не добился… О тщета всех усилий человеческих!» А там, на столе, в рамке был «он», со своей застывшей безмятежной улыбкой — улыбкой вечности. Владыка истинного и ложного. Диего Эррера спрыгнул с койки. «Куцый, Куцый…» Пес подбежал и мордой ткнулся ему в ладонь. Пес тяжело дышал, и удары его сердца, казалось, отскакивали от стен с глухим стуком, будто мячик. «Куцый, дружок». На площадке под окном громоздились штабеля дров, заготовленных на зиму, а внизу тихонько журчала река. («Сын мой. Сыночек».)
●
Мальчику было семнадцать лет. Он всему верил. Не знал никаких сомнений. Позади остались годы, когда тяжело больной отец с постели следил за ним взглядом. Болезнь длилась долго. Только воля к жизни могла спасти больного. «Вера спасла его». И вот, лежа в постели, он глядел на малыша, как тот в саду, переступая негнущимися ножонками, гоняется за птицей. Глядел на пухлые, молочно-белые коленки. «Господи, даруй мне жизнь». Когда он оправился от болезни, малыш подрос. Отец за руку водил его в школу. Радовался хорошим отметкам. Потом надо было выбирать профессию. Мальчик хотел стать архитектором. Воздвигать новые города, полные света и воздуха, города его грез. «Он совсем еще ребенок», — твердила мать. И вправду, он казался не таким, как все. Чистый, необыкновенный мальчик… Его взяли ночью. Какие-то люди пришли за ним, обвиняли в убийствах. «У этого руки в крови». То была клевета, напраслина. Рыдая, они с женой не могли отвести глаз от сына. Мать вцепилась в него и не отпускала. Диего оттолкнул ее. «Оставайся дома, я пойду за ним следом, обещаю тебе». Все еще не верилось: не может быть. Ведь это совсем ребенок. Он не покинул его. Глаза сына молили: «Не оставляй меня одного. Иди за мной». А посреди неба торчала круглая безучастная луна. В июльской ночи поднимались невиданные города, города, построенные его сыном; в ночи, истекающей кровью, как пташка, которой свернули шею. Города, еще не утратившие надежды, хрупкой, тонкой, как струйка крови. Мальчику связали руки за спиной и поставили к ограде замка. Добивались признаний, выдачи сообщников. Требовали, чтоб он заговорил. «Да ведь он еще ребенок… Дитя совсем…» Его швырнули на землю, в пыль, пинали в лицо сапогами. Но он ничего не сказал. Рот его замкнулся в молчании, словно ящик, крепко запертый на ключ — странный, темный ящик…