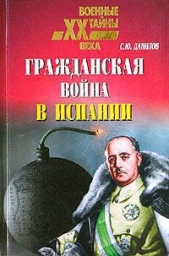Мертвые сыновья

Мертвые сыновья читать книгу онлайн
«Мертвые сыновья» — одно из лучших произведений известной испанской писательницы Аны Марии Матуте. Это грустная и умная книга о современной Испании и ее людях. Яркие психологические образы героев, богатый колоритный язык характеризуют этот роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
●
«Господи боже мой, я не могу его покинуть. Ведь то были его последние слова, он молил: „Не оставляй меня одного, отец, не оставляй“».
(В хижинах видят сны ребятишки; те, что мучают собак и разоряют птичьи гнезда, хнычут и растут на глазах — становятся взрослыми, пока отец отбывает срок. А женщины ждут.) «Я не могу его покинуть. Его кровь — это моя надежда, моя вера». Диего Эррера подумал о парне с глазами жесткими как кремень, о парне, похожем на «него». «Я не покину его». Луна озаряла унылые лачуги — лачуги женщин и детей. Тех, кто не бросает близких в беде, — всегда идет за ними следом, взвалив на плечи надежду.
Над нарами взошла луна, недобрая, почти зловещая. Мигель Фернандес с головой зарылся в одеяло: пусть не мешает спать…
Глава пятая

Прямо не верится, но, если пораздумать, — пожалуй, так оно и есть. Ведь девчонка всю жизнь торчит в этой дыре… Проходя по склону Четырех Крестов, он задержался, пристальнее разглядывая Энкрусихаду. Родилась, говорит, там… Большой каменный дом под черепичной крышей, весь в купах деревьев, среди лугов, пашен и тополиных рощ. Ограды никакой — ни глинобитной, ни сложенной из камней. За домом арендаторов, поодаль от конюшен — заброшенных, полуразвалившихся — протекает река. Печальный вид у этого дома! Мигелю он не понравился. Вдруг у него возникло странное чувство. Что-то вроде сострадания. Да, он пожалел эту девушку у ручья. Она, должно быть, очень одинока. Друзей у нее нигде нет. Ни в Эгросе, ни здесь, в поместье. «В семье у нас одни старики», — сказала она. А когда узнала, что он родился у самого моря, глаза у нее так и загорелись. «Море», — протянула она, словно это было нечто диковинное. Словно это волшебство, в которое не смеешь поверить. Мигель ухмыльнулся. Видал ли он море? Спросила тоже! Да у него всю жизнь море перед глазами стоит! Море, как бы это сказать, — фон, аккомпанемент его жизни. «Как музыка, что звучит в кино за кадром». Мигель воткнул топор в колоду, задумался.
Лес обступал его плотной стеной — сумрачный, угрюмый. Доносился стук топоров, скрежет лесопилки. Слышались голоса людей, песенка Санты — сквозь хриплый упорный кашель… Мысли не повиновались Мигелю, были далеко, наперекор его воле.
●
Обычно море сплошь рисуют синим. Но не всегда оно синее. В тот день оно синим не было. Они с Чито сидели на пляже и глядели на море. Только-только взошло солнце. День обещал быть знойным, но на берег набегал ветерок, приятно шевелил волосы. Это было через несколько дней после того, как утопили людей, связанных цепью.
●
(С уверенностью, впрочем, не скажешь когда. Время трудно было соразмерять, соотносить, укладывать в единый поток. Но примерно он прикинул — много времени не должно было пройти.)
●
Худой голой рукой Чито указывал на море. Он щурился от яркого блеска волн, а жесткие черные лохмы падали ему на глаза, и ветер развевал их. Когда мать прибежала за Мигелем, он слушал рассказ Чито, внимательно глядя на друга. Мать прибежала за ними, потому что надо было уезжать. Уезжать! Они с Чито запрыгали от восторга. Уезжаем! В другое место! Далеко! Переезжали три семьи: Чито, их и Монго. Дядька Чито, младший брат его отца, уже давно живший в Барселоне, прислал письмо. Он звал родных к себе. «Приезжайте, — писал он, — в ваших краях не прокормитесь, а здесь, в городе, побеждает революция… Нужны добровольцы для Арагонского фронта». И еще что-то про бригаду Аскасо [19].
Они уехали в большом грузовике, размалеванном вдоль и поперек красной краской — лозунгами; кумачовый флаг полыхал на ветру. Мигель помнит, как суетились и хлопотали женщины, увязывая в узлы старую одежду; узлы побросали в грузовик, а наверх забрались они с Чито да Мари Пепа, младшая девочка семейства Монго. Отец, как всегда, говорил без умолку, кричал громче всех, всем распоряжался и командовал. Высокий, с желваками бицепсов на крепких руках, обросших рыжей шерстью, которая отливала золотом на солнце. А на запястьях обеих рук — часы. Да, часы на обеих руках, это он хорошо помнит. Зато раньше совсем никаких не было. Отец Чито, по прозвищу Андалусец, был безносый. На месте носа — просто гладкое место, как будто нос напрочь оттяпали ножом. Из-за этого они с Чито прямо покатывались со смеху: «Чито, твоему отцу нос откусили». Две темные дырки вместо носа, как у скелета. Братья Монго все были приземистые, с черными как уголь волосами, с длинными и острыми зубами — будто у шакалов. Это Монго схватили ночью священника и приволокли на пляж. Все это знали. Мигель испытывал к ним какое-то брезгливое чувство, хотя сам не понимал почему. Лица у них были смуглые до черноты. Он побаивался их — по спине пробегал холодок. Из-за этого он не любил играть с Мари Пепой. Два года назад ее маленький братишка умер от крупа. Завернув малыша в фартук, мамаша Монго ходила от порога к порогу и просила денег на похороны — с застывшим, как будто окаменевшим лицом. Постучалась она и к матери Мигеля, и та ей сказала: «Тебе я последнее готова отдать». И вправду дала немного денег, он своими глазами видел. А Монгиха даже спасибо не сказала, считала, видно, не за что, и поплелась к бару в казино, где собирались по вечерам богачи — пить вермут с маслинами. Мигель, высунувшись из окна, глядел ей вслед. Ветер задирал ей подол, так что видны были черные чулки над белыми альпаргатами; ветер трепал спутанные, нечесаные космы — пучок совсем сбился на сторону… А на руках — трупик, завернутый в полосатый передник, из которого торчали крохотные ступни — пожелтевшие, с лиловыми ногтями. Мать выбежала на порог и закричала: «Не ходи туда, Монгиха, не надо!» Но Монгиха словно бы и не слыхала — нема и глуха была она в тот вечер. Это Монго подожгли дом дона Панчито, а самого дона Панчито выволокли на улицу и до полусмерти избили палками, а потом бросили в море. Папаша Монго целых два года не поднимался с кровати — он упал с верфи и сломал себе позвоночник. Дети — тогда еще совсем маленькие — бродили по пляжу с мешком, подбирая невесть что, всякий хлам. Монго всех задирали, чуть что хватались за нож или за булыжник, и от них нестерпимо воняло. Ему казалось, что воняет от них оплывшей свечкой, потому, быть может, что это они убили священника — ночью, на пляже. А потом рассказывали, как священник молча опустился на колени, а они все спрашивали у него: «Помнишь то-то да то-то, другое да третье?» Но он молчал. Не сопротивляясь, покорно подставил голову. И Монго признали: «Хватило все-таки духу, не дрогнул перед смертью. Не распускал слюни, как другие, не хныкал. Бесстрашней всех оказался». У отца, Андалусца и папаши Монго, когда они ехали в грузовике, торчали за поясом пистолеты, а еще у них были винтовки и часы. И все были такие удалые, развеселые, а он и не знал вовсе, что такое война; больше всего это было похоже на гулянье во время церковного праздника. Да только примешивалось к этому гулянью что-то болезненное, надрывное. Все надрывно гоготали, хватаясь за животы от смеха, и роняли соленые, как морская вода, словечки. Словечки эти скатывались с губ сухими, скрипучими песчинками. Переезд был долгим. Целых два дня, а может, и больше. Иногда по дороге останавливались. Дети хотели пить, спать, есть, им нужно было размять ноги, помочиться, подраться. У Мари Пепы ноги были длинные, жилистые — ноги девочки, которая работает через силу и много потеет. (Черные жидкие косички Мари Пепы, крысиные хвостики, сальные, стянутые на затылке веревочкой… Горло забинтовано — Мари Пепа то и дело теряла голос и хрипела, как будто в гортани у нее запеклась кровь.) По ночам их троих — его, Чито и Мари Пену — укладывали на свернутые тюфяки и сверху накрывали одеялом. Он заметил, что Чито и Мари Пепа руками шарят друг у дружки по телу и шушукаются. Но он еще ничего в этом не смыслил, а потом, когда подрос, вспоминал со смехом и какой-то тайной грустью. По ночам становилось страшно, и однажды Мари Пепа отчаянно заревела, но папаша Монго пригрозил ей прикладом, и она стихла. Все трое забивались под одеяло, тихонько, как мыши, только глаза одни видны, и в них отражается необъятное звездное небо. Мари Пепа рассказывала своим сиплым, чуть слышным голоском, как старшие ее братья, Рипо и Адольфито, нацепили на себя облачение святой Магдалины — длинную мантию из фиолетового шитого золотом бархата, а в руках притащили домой волосы святой, которые так напугали Мари Пепу. И, слушая ее рассказ, мальчики тоже дрожали от страха: святая оказалась просто куклой с нарисованными глазами, которые никогда не закрывались, а вот волосы у нее были «всамделишные». И волосы эти нагоняли больше страху, чем все вопли и выстрелы, даже чем покойники. (Когда случалось ему дотронуться до волос святой Магдалины, там, в портовой часовне, по спине пробегал острый холодок.) Как-то раз грузовик остановился. Уже смеркалось, и, осветив фонарями кювет, они увидали распростертого на обочине человека с восковым лицом и сгустками черной крови в спутанных волосах. Рипо Монго выругался и пнул труп сапогом в лицо. Потом он снова залез в машину, и они покатили дальше, оборачиваясь назад и грозя мертвецу кулаками. Монгиха причитала: «Помнишь сыночка моего, пес проклятый, помнишь, как он умер от удушья, потому что не хватило денег на сыворотку? Помнишь сыночка, моего, которого заживо раздуло как утопленника, а я ходила с ним на руках от порога к порогу и не проронила ни слезинки, ни словечка во всю неделю? Помнишь, как я делала аборт за абортом, как ходила брюхатая и не видела ничего, кроме хлеба да селедки, когда Монго мой свалился с верфи, а дон Панчито не заплатил ему страховку? Помнишь моих сыновей, которым пришлось воровать, губить себя, потому что не годились они для работы, заморыши, — зубы гнилые с голодухи, — и никто не хотел нанимать их, все говорили: „Ой, только не этих, это отродье Монгихи, разбойничье семя!..“ Помнишь, пес поганый?» И много еще невесть чего городила Монгиха, пока сыновья не велели ей замолчать, а муж подставил синяк под глазом. Они кричали ей: «Заткнись, не растравляй душу! Что за дуры эти бабы! Нашла время нюнить, ведь мы всем отомстили, и с этим навсегда покончено!» И Мигель подумал, что правда, счеты сведены. Но таковы уж женщины, его мать тоже была такая. Вдруг, когда все, казалось бы, довольны жизнью, они заводят бесконечные жалобы и оплакивают то, о чем все уже позабыли. Ведь они теперь едут на фронт, а это вроде праздника или ярмарки! Так хватит этой Монгихе ныть! И он обрадовался, когда папаша Монго подставил ей фонарь и она наконец замолчала. Они с Чито хихикали и щипали Мари Пепу — девочка задумалась, разинув рот, а на кончике носа у нее повисла капля.