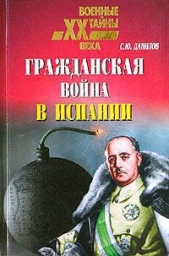Мертвые сыновья

Мертвые сыновья читать книгу онлайн
«Мертвые сыновья» — одно из лучших произведений известной испанской писательницы Аны Марии Матуте. Это грустная и умная книга о современной Испании и ее людях. Яркие психологические образы героев, богатый колоритный язык характеризуют этот роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он был из лагеря уголовников. Исабель строго-настрого запретила ей даже близко подходить к Долине Камней, и когда она сталкивалась с кем-нибудь из заключенных, по коже пробегали мурашки, от страха и ребячьего любопытства. «Это преступники, мошенники, отребье», — говорила Исабель, возмущенная тем, что их привезли в Эгрос. В деревне никто, или почти никто, не испытывал к ним сочувствия. Однажды Моника слышала, как причитала Танайя — это, дескать, жителям Эгроса божья кара. «За черствые их сердца, за скаредность их». Мало того что болото затопило деревню, так на тебе, еще волки да каторжники. И вот в тот вечер — в первых числах сентября это было, от полей исходил особый, неизъяснимо сладостный аромат, густой и скорбный, — Моника повстречала Мигеля Фернандеса, когда он возвращался из лесу в Долину Камней. Она отошла к обочине, пропуская навьюченную лошадь, которая занимала дорогу во всю ширь, а порой даже задевала за нижние ветви деревьев. Парень был совсем юный, среднего роста; светлые волосы ежиком отрастали на обритой макушке. Лицо широкое, скуластое, как у кошек, тигров и прочих животных на той картинке в старом учебнике Сесара, где написано: «Семейство кошачьих». Нос немного приплюснутый, грубый. А рот, как ни странно, совсем детский, губы пухлые. Рот прожорливый и чистый, жадный и спокойный в одно и то же время. «Он, верно, спит приоткрыв рот. И если заглядится на что-нибудь, тоже». Но глаза были совсем особенные. Моника физически, почти до боли, ощутила взгляд этих глаз. Она еще долго чувствовала этот взгляд на себе, уже после того как юноша прошел, скрылся в облачке желтоватой дорожной пыли. «Волки и каторжники», — невольно подумала она. Какое преступление мог совершить этот парень, почти ровесник ей? Вряд ли ему больше восемнадцати… Над верхней губой и на подбородке только-только пробивается золотистый пушок. «Не похож он на преступника. Впрочем, я не знаю, какие лица у преступников, никогда их не видала. Может, они ничуть не отличаются от других людей — от Сесара, например, или от папы. Да, если хорошенько вдуматься, преступником может стать каждый. А я могла бы стать? Могла бы убить или еще сделать что-нибудь очень дурное? Не знаю, не хотела бы я дойти до этого. Но ведь и они наверняка не хотели — прежде». Вдруг она вспомнила, как воют зимой волки. «Зимой волки голодны». Эта мысль была невыносима: они воют так страшно потому, что жестокий голод мучит их, заставляет совсем близко подходить к человеческому жилью. Волчий вой был ужасен. Он внушал страх и жалость. «Этого мальчика мне тоже жалко, — сказала она про себя. — Не знаю почему, но жалко. Как голодных волков, как того волка, что Гойо и Мартины дети замучили во дворе, а он смотрел на меня горящими глазами — да, на меня он смотрел, это точно, на меня, как и этот мальчик. Спрятать бы где-нибудь бедного волка, чтоб не терзали его так. Ах, как безжалостно они проткнули ему брюхо вилами! Он истек кровью. Сколько крови было поверх грязи на шкуре! От этого к горлу подступала тошнота. А страху сколько натерпелись! У Гойо душа в пятки ушла. (Противные, мерзкие руки Гойо!) С волка содрали шкуру и отнесли властям, чтобы получить награду».
Всю эту ночь ей снился волк — он то оборачивался мальчиком, то опять становился волком. И неотступно глядел на нее. Задирал морду вверх, к оконцу амбара, и она слышала вой, а может, это ветер свистел в щелях, но от тоскливого воя безмерная печаль пронизывала ее до мозга костей.
Вот уже больше года, как жизнь Моники переменилась. Пока она была девочкой, никто особенно не занимался ею. Даже Исабель. Правда, зимой Исабель усаживала ее подле себя на скамеечке, заставляя шить. Или учила грамоте в гостиной у камина либо в маленькой комнатке, где стояла жаровня. Но через некоторое время оставляла Монику в покое. И тогда можно было выбежать на заснеженное крыльцо, приложить руки ко рту, кликнуть Гойо с братьями и побежать с ними на луг или на реку, захватив силки и капканы, тайком от лесника. А летом она лазала по деревьям в саду — опять-таки с детьми Танайи — или наведывалась в хижину за тополями; она входила в дом арендаторов, и Танайя угощала ее свежевыпеченным хлебом и сладкими лепешками, если в тот день ставила тесто. А кругом была такая красота! Моника подстерегала, когда на томатах в огороде завяжутся зеленые плоды, а бобы и фасоль обовьются вокруг палочек; она первая находила в густой влажной траве у ручья крупную спелую землянику. Они гуляли с Гойо, взявшись за руки. Тогда еще Гойо не поглядывал на нее как теперь: искоса, с кривой ухмылкой. Теперь все переменилось. Как только ей исполнилось четырнадцать или вскоре после того. Исабель запретила ей ходить в гости к Танайе, играть с Гойо и его братьями, лазать на деревья, купаться в реке. Это внезапное внимание к ее особе было ужасно. «Больше всего меня злит, что никогда не объясняют почему». «Этого ты не должна делать». «И этого тоже». «И этого нельзя». Ладно. «А почему?» Ответа не добиться. «Потому что это нехорошо», — говорили ей. «Но ведь это не ответ». Откуда знает Исабель, что хорошо, а что плохо? Да, Моника теперь совсем одинока. «Все так далеки от меня». Даже на Гойо теперь нельзя полагаться. Потому что и Гойо переменился. Порой он даже внушал ей страх. Все же, пользуясь случаем, Моника иногда еще удирала в домик арендаторов, где жили Танайя и Андрес с детьми — Гойо, Педрито, Лукасом, Марино, Лопе и Хесусом. Раньше Гойо и Педрито, босоногие, смеющиеся, наперегонки с ней взбегали по лестнице. Теперь все было иначе. Танайи или не было дома, или же она выходила навстречу с натянутой, деланной улыбкой. И звала ее «сеньорита Моника». «Рада видеть вас, сеньорита Моника; вот поглядите, как протекает здесь крыша да расскажите сеньорите Исабель. Сеньорита Исабель каждый день ходит к причастию, так передайте ей, что молитвы скорей до бога дойдут, коли починит нам этот сарай. Марино болен, всю зиму кашлял. Скажите это сеньорите Исабель, раз уж она такая праведница да богомолка». Моника спускалась по темной вонючей лестнице, которая в детстве казалась ей сказочным царством; лестница служила насестом для кур, и они взлетали из-под ног, кудахтая и хлопая крыльями. Здесь ютились птицы, три кота, а еще тряпичные куклы Мартиты и Эмилии — дочерей Марты. Там же Гойо хранил птичий клей, сети, удочки и даже маленькие блестящие монетки, которые Исабель дала ему — на воздвиженье, кажется, — чтобы купить персиков. Перепрыгивая через ступеньку, Моника, еще мокрая от купанья, босиком взбегала по лестнице, а за ней весело гнался Гойо — тот самый, что теперь смотрит на нее стервятником; или Эмилия, которая теперь шушукается с подружками у нее за спиной. «Почему все хорошее проходит?» И тогда ее охватывала жгучая тоска: тоска налетала как внезапный ливень, как порыв ветра перед грозой, наплывала огромным раскаленным облаком. «Почему?» Ей казалось, что она окружена стеной молчания. Она вновь шла к дому арендаторов — ей хотелось еще раз испытать былую радость. Порой Танайя встречала ее как прежде. Отрезала ей ломоть хлеба и намазывала медом диких пчел, который приносили из лесу Лукас или Педрито. Называла ее александрийской розой, голубкой, вспоминала детские ее шалости и словечки. «Ты крепко любишь Танайю, моя овечка? Не забудешь Танайю, когда она состарится?» Моника говорила, что всегда, всегда будет помнить про Танайю и про Лукаса, про Гойо и Педрито. Тогда Танайя становилась серьезной, вздыхала и долго глядела в огонь, не выпуская блестящего ножа из скрюченных, как у пахаря, пальцев. «Боже мой, боже мой, как летит время», — причитала она. Но на другой день Танайя возвращалась с реки, где по локоть в ледяной воде полоскала белье. Босая, с посиневшими, сведенными от холода губами. Таща на плече полную корзину белья, она оглядывала Монику хмуро, сердито, и слова ее обжигали, как горячая пыль в знойный день. «Не подходите, сеньорита Моника, запачкаю». И глаза Танайи тоже — теперь Моника это знала, — тоже были как у волка. Она тоже глядела волком — когда слышала кашель Марино, когда таскала на спине вязанки дров, когда ходила в господский дом проверять счета. Ласково глядел теперь на Монику, если она проходила мимо, только дряхлый шелудивый пес Солнышко — уши у него были сплошь облеплены мухами.