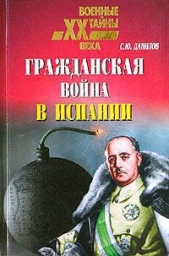Мертвые сыновья

Мертвые сыновья читать книгу онлайн
«Мертвые сыновья» — одно из лучших произведений известной испанской писательницы Аны Марии Матуте. Это грустная и умная книга о современной Испании и ее людях. Яркие психологические образы героев, богатый колоритный язык характеризуют этот роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды Моника натолкнулась на Гойо и Педрито: они возвращались домой, чумазые как черти, под мышками — завязанные мешки, а за поясом заткнуты топоры. Увидели ее и скорей попрятались, а снизу, с реки, Танайя кричала им, чтоб свернули в другую сторону, и швыряла в них камешками, точно в скотину. Скрываясь от Моники, мальчишки побежали за тополиную рощу. Тогда Моника сообразила, что Гойо и Педрито уже не раз, должно быть, ходили тайком в леса Корво на Нэве рубить деревья и выжигать уголь: недаром в лесу полно свежих пней и пепелищ. Уголь прятали, верно, где-нибудь в горах, а потом украдкой приносили домой. Моника почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Деревья жаль, а недоверие мальчишек и того обиднее. «Да ведь я бы не сказала ни слова! Умерла б, а не выдала!» Однажды Танайя пожаловалась, что им надоело жить без электричества. «Дом такой ветхий, того и гляди загорится ненароком. Скажи сеньорите Исабель, что мы живем при светильниках и закоптели что твои пауки. Скажи это сеньорите Исабель». В доме арендаторов, когда стемнеет, по лестнице и по комнатам все ходили ощупью: они говорили, что свечи очень дорогие и скверные. Только на кухне в очаге всегда пылал огонь, и на стене плясали багровые тени. Порой, поднимаясь или спускаясь по лестнице, Моника сталкивалась с Гойо. Он прижимался к стене, чтобы не задеть барышню, и молча сверлил ее недобрым, почти злобным взглядом. Гойо и его братья ходили в отрепьях; старшие из обрывков шин мастерили себе нечто вроде калош, а младшие и летом и зимой бегали босые. Они питались картофелем, зеленью с огорода, солониной и свиным салом. Форель, которую тайком ловили Гойо и Педрито, и куриные яйца продавали Исабели, эгросскому врачу, учителю или священнику. Зато пили много вина. И только когда подыхала или насмерть разбивалась в горах овца, им доставалось мясо. Откармливали, впрочем, поросенка, которого закалывали в декабре. (В тот год, когда болел отец семейства, Андрес, не хватило денег даже на поросенка. Андрес упал, обрезая грушевые деревья, и сломал себе два ребра.) Окорок подвешивали к потолку на кухне, но не прикасались к нему до самой жатвы, когда приходилось работать в поле от зари до зари и стряпать дома не поспевали. У Танайи не было ни дочерей, ни помощницы — вся работа по дому лежала на ней одной. От усталости она еле волочила ноги, точно старая кляча; на руках набухли синие жилы, суровые глаза сухо поблескивали на пожелтевшем лице; босиком, подоткнув юбки, она без конца сновала из кухни на реку и обратно или же, обувшись в самодельные галоши из шин, работала в огороде, а потом, взвалив на плечо мотыгу, отправлялась в горы. Раз в две недели пекла ковриги грубого черного хлеба и стояла тогда у раскаленной печи полураздетая, с распущенными волосами. Время от времени она стирала мужу и шестерым сыновьям и сушила белье на солнце, развесив по кустам, а уж погладить времени не оставалось, разве что в воскресенье или в праздник воздвиженья. А на ночь надо было еще приютить двух старших дочек служанки Марты — «холостячки», потому что Исабель запретила им находиться в Энкрусихаде. Марта прижила двух девочек от батрака-галисийца, лет десять тому назад. Однажды поутру галисиец бросил ее, ушел, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Лет пять назад Марта прижила еще и сына, смуглого смазливого мальчугана с длинными кудряшками. Марта на коленях молила Исабель не разлучать ее с сынишкой. «Опять за свое, грязная тварь, потаскуха бесстыжая, — гневно сверкая глазами, отчитывала ее Исабель. — Вышвырнуть бы тебя раз и навсегда из этого дома!» Но Марта была незаменимой кухаркой и прачкой, она работала, кроме того, в огороде и выполняла всю черную работу в Энкрусихаде, где хозяйка и слуги трудились не покладая рук, чтобы содержать дом в порядке. В конце концов Исабель скрепя сердце разрешила оставить мальчика в доме, хотя подниматься в господские комнаты ему было запрещено. Кто отец мальчугана — было неизвестно, а нарекли его Кристобалем. Был он дикарь, нелюдимый. Как щенок носился с огорода на реку, а с луга на кухню. Бегал босой, полураздетый, хоть Исабель и мастерила ему порой штанишки или рубашонку из старого тряпья, которое доставала со дна своих комодов.
При всей этой нищете жизнь в домике Танайи била ключом: там шумно играли, бегали сначала дети, потом подростки; слышался смех, крики, брань, и порой, несмотря на холод и голод, царила радость, а порой и горе. Несмотря на запрет и собственное малодушие, Монику так и тянуло в домик Танайи, и она пробиралась туда сквозь сырую рощу молчаливых черных тополей. Особенно привлекал ее дом арендаторов в те дни, когда душу затопляла смутная тоска по чему-то неизведанному, незнакомому. Андрес и Танайя вели, казалось, постоянную борьбу — глухую, упорную войну с окружающим миром. Прежде всего — с землей. Потом — с засухой и ненастьем, с собаками, с господами и, наконец, с собственными детьми. Мальчишки, не видевшие от родителей ничего, кроме порки, окриков да тумаков, росли тем не менее как на дрожжах; они все вытягивались и вытягивались — так лезешь в гору по крутому склону, а он уходит все выше и выше. Но Марино беспрерывно кашлял, и однажды Танайя как подкошенная рухнула на камень возле хижины и, уткнувшись лицом в ладони, разрыдалась… Она всхлипывала чуть слышно, подавляя рыдания, но никогда еще не слыхала Моника такого горького плача. Бегом бросилась она к Танайе, как бывало в детстве. Обвила ей шею руками и крикнула, чувствуя, как сердце разрывается на части: «Не плачь, Танайя, не плачь!» И Танайя проговорила сквозь слезы: «Не жилец он у нас». И правда, Марино умер. Еще и месяца не прошло с тех пор. Гроб несли лугом на эгросское кладбище. Двенадцатилетнему Марино — кудрявому, белокурому — перевили руки лиловыми лентами, а в губы и промеж пальцев вложили бумажные цветы. И Танайя, пошатываясь, вышла на порог — молча, не проронив ни слезинки, безропотно и чинно сложив руки на животе. А в воздухе звучали слова, слышные одной только Монике: «Прощай, ненаглядный мой голубь, малая птаха, прощай». Так пелось в старинной песне, которой научила Монику, когда она была маленькой, сама Танайя. Но на другой день Танайя спускалась к реке с неизменной кипой белья на закорках и, когда младший, Хесус, расшалившись, ослушался ее, запустила в него камнем. И в причитаниях Танайи (в тот день и накануне) Моника узнала протяжный зимний вой — вой волков, когда они со Снежного Креста спускались в селенье…
Из всех шестерых больше всего не любил работать в поле Гойо. Он то и дело доставал из тайника ружье и назло всем отправлялся на охоту, а отец тщетно дожидался его возле плуга. Страсть к охоте была сильнее Гойо, Моника это знала. Она нечаянно подслушала, как он взволнованно обсуждал с Педрито свои похождения и проговорился, что ночью ему снится крупная дичь. Педрито, спавший с братом в одной постели, стал подтрунивать над ним: «Думаешь, я не слышу, как ты орешь по ночам да науськиваешь гончих?» Гойо был одержим этой страстью, и Моника подумала: «Вот почему он всегда такой хмурый, будто недоволен чем». Но за то, что он пренебрегал своими обязанностями, Танайя или Андрес секли его розгами, а то и ремнем, хотя парню уже стукнуло шестнадцать. Пороли нещадно, с яростью, с ожесточением. Однажды потерявшего сознание Гойо бросили в хлеву, и малыши — Марино, Лопе, Хесус и девочки Марты — на цыпочках прокрались туда, шушукаясь и прижимая палец к губам, словно боялись спугнуть птицу из гнезда или шли поглядеть на покойника. Пошла поглядеть и Моника. Гойо лежал на куче навоза и тяжело дышал. Вероятно, он услыхал ее шаги: поднял голову и взглянул на нее. Глаза его были воспалены — как те, которые снились ей теперь. И она вздрогнула. Гойо вскочил, бледный, с пеной на губах от боли и ярости. Рубашка у него была изодрана в клочья. Он бросился к реке и вскоре вернулся с прутом, срезанным в камышах. Схватив Солнышко за ошейник, он стал хлестать его, зверски хлестать, пока не брызнула кровь. Моника убежала, но жалобный вой собаки преследовал ее весь день.
Повстречав на дороге парня из Долины Камней, Моника безотчетно вспомнила все это и еще многое другое. Она подумала: «Все меня бросили». И еще: «Может, я тоже такая, как они». Она сама толком не знала, что значат эти слова, неожиданно пришедшие ей в голову. Но она вспомнила глаза Танайи, глаза Гойо, глаза волка — такие же, как у парня из Долины Камней…