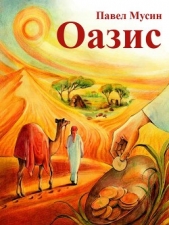Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На третьи сутки пребывания в Москве, в заснеженном и тихом-тихом, точно выросшем из детства Никоновском переулке, у мамы, он начал наконец слышать. И девичье лицо перед ним не двоилось, и он увидел его сразу все — четко и точно, на всю жизнь. Да к тому же Декабрев в то самое мгновение понял — вот и все. Точка. Он был сильным. Весь полон непонятной энергии и жажды. Танки и война дали ему эту силу. Ощущение опасности и мощи машины, умение распорядиться этой мощью. И он тогда уже понимал, что и на войне он живет и живет с удовольствием, радостно, радуясь опасности и товарищам.
Он был сух, смугл, не очень высок ростом, ходил четко, два года фронта выработали в нем привычку смотреть пристально, словно в триплекс. И только седеть он начал рано, и рано постарело его лицо — на лбу и у рта появились сухие, похожие на трещинки, морщины.
Она спросила про билеты не у него: кто-то вальяжный, пахнущий хорошим табаком и мехом тщательно оберегаемой шапки и воротника пальто, проходил мимо, поддерживая под локоток такую же ценную даму в манто. Но старший сержант Декабрев, ступив по сухому снегу начищенными кирзовыми сапогами, не дал ей дослушать полугалантный-полунебрежный ответ. Тронул худенькую москвичку за плечо. Билета у него не было ни лишнего, ни какого другого. Да и классическую музыку он тогда любил не очень. Разве что две-три вещи, невесть как запавшие в душу с детства. И он сказал ей об этом, когда отвел ее немного в сторону.
— Просто мне было обидно видеть, как ты просишь у этого жлоба…
Помолчав, она нерешительно произнесла:
— Знаете, кажется, это вовсе не жлоб. Это, по-моему, народный артист. Скрипач.
И она назвала очень известную фамилию.
— Ерунда, — сказал он. — Может быть, он и народный — все равно. К нам в бригаду приезжал народный. И тоже скрипач — он был совсем другим.
— Но вы не подумайте, что я у него потому спросила, что он артист. Я узнала его потом, когда он уже обернулся ко мне.
— Ты прости меня, — сказал, вернее, перебил ее Декабрев. — Я не умею говорить на «вы». Я только с начальством так. Положено. А вообще — не умею…
Ни робости, ни скованности не испытывал Декабрев, хотя уже в это самое мгновение, а скорее за секунду перед этим понял, что он встретил на своем пути, — нежность, застилавшая глаза, нежность и волнение были в нем. И он не успел этого скрыть, и это стало понятно ей. Она как-то совсем по-иному, чем прежде, посмотрела на него и замолчала.
Долгим был полет через всю страну, с множеством посадок и взлетов. Да, все правильно: жить во лжи было больше нельзя. Совсем не та это была Москва в тещином доме. И жизнь не та. И работа — все было не то, словно службу нелюбимую нес. И утро не давало радости, и близость с женщиной, когда каждое прикосновение было острым, непривычным и каждое — помнилось — не могло заглушить горечи.
Через два десятилетия звучала в нем та первая, сумасшедшая, невероятная ночь. Чего только не было потом, но та ночь всегда была с ним. Так они и пришли к ней — по снегу, через всю Москву. Это уже потом бабушка получила отдельную просторную квартиру. А тогда они жили в большой коммунальной квартире — с темным и сырым подъездом, в котором не работал лифт, в котором, ввиду того что шла война, не было света. И сквозь мутные закопченные окна лестничных пролетов попадало обессиленное мерцание зимнего дня. И гулок был подъезд и неуютен, и поднимались они на третий этаж по громадным, изношенным, замусоренным ступеням, время от времени на весь дом цокали подковки его фронтовых сапог. Бабушка была не то в эвакуации, не то в командировке в Сибири. Он тогда ничего не знал о ней — о бабушке.
Они занимали комнату в конце длинного коридора, куда выходило множество дверей, за каждой дверью своя жизнь. И в то же время — одна жизнь у всех. И как-то особенно остро почувствовал он, сержант танковых войск, сколько общей неустроенности было в этой коммунальной квартире. Корзины, детские ванночки, коляски, ведра, чемоданы, белье на веревках, протянутых вдоль и поперек коридора и уходящих куда-то вправо, — наверное, коридор продолжался, и почему-то запах снега. Так живут люди во время кочевий, войн и революций, откладывая на потом все мелкие, ненужные сейчас дела во имя главного. И еще поразила сержанта тишина, словно он шел по зданию, оставленному жителями и войсками. Ни шороха, ни звука — лишь цоканье его собственных подковок, задыхающийся шелест одежды его спутницы. Он ничего не знал о ее семье и о ней самой, но ему казалось, что они давно вместе — так полон он был ощущением близости к ней, к ее запаху, ее доверчивостью. Она сняла пальтишко и оказалась в вязаной, широковатой для нее серой кофточке и в узенькой суконной юбочке. Он тоже снял свою шинель, поискал глазами, куда ее пристроить, не нашел и положил ее — тяжелую, прокаленную морозцем — на валик дивана. Они долго ходили по Москве в тот день. И уже смеркалось — сумерки размыли очертания предметов, и черты ее лица, и без того мягкие и тонкие, совсем словно бы утратили реальность.
Она сказала немного виновато, немного растерянно:
— Я согрею чаю. У нас есть настоящий сахар и есть хлеб. И даже настоящий чай.
Он сел в кресло у окна и оттуда стал следить за тем, как она ходит, собирая на стол, как разжигает керосинку — электричества не было, — и она время от времени обращала к нему свои темные-темные, без единой искорки, огромные глаза.
Когда она присела перед раскрытыми дверками буфета, где, наверное, когда-то хранились запасы, а сейчас было пусто, он увидел, что сбоку на ее старенькой юбочке нет одного крючка — в прорези пронзительно голубела комбинация. Дыхание у него перехватило от нежности к ней. И когда она опять прошла мимо него к столу, держа в руках сахарницу и тарелку с хлебом, он осторожно взял ее за локоть и прислонился лицом к тонкому холодному запястью. Она словно ждала — пусть не этого, а другого какого-то порыва, — она стояла, замерев, опустив голову, не высвобождая руки своей. Потом он встал, взял из ее холодных рук то, что она держала в них, поставил все это на край стола, обернулся к ней. Потом он за плечи притянул ее к себе.
«Наверное, такое между людьми происходит только на войне», — подумал он, устало откидываясь назад всем телом в кресле лайнера, повисшего на высоте десяти тысяч метров в клубящейся мгле над огромной Россией. Во всяком случае, он попытался представить себе, что такое может произойти с кем-нибудь сейчас — и не смог. И еще он подумал, что вслух об этом говорить нельзя. Ни с кем, даже с ней. И они никогда вслух не вспоминали эту ночь, даже потом, когда он вернулся. Но она жила в них, она была во всех их ночах. И он видел это в ее лице, не повторяясь, оно несло на себе светлую сень той далекой изначальной ночи. Привычки к близости так и не возникло. Каждое мгновения любви было для них обоих словно в первый раз. Он знал это. Знал всегда, знал и сейчас.
Их бригада, в которой он водил танк с башенным номером двести восемь, носила опознавательный знак — мотылек. Снаряд из немецкой 88-миллиметровки — последний снаряд для нее в бою и той войне — угодил в самый этот мотылек. Когда сержант выбрался из танка, спасать ему было некого — командир, заряжающий были убиты, а танк горел.
Он отошел в сторону. И страшно ему было слышать гудение пламени в тишине — больше нигде не раздевалось ни выстрела. Нечему было рваться и внутри — нее до последнего снаряда, до последнего патрона к пулеметам они расстреляли, а пистолетные патроны убитых только потрескивали в черно-дымной утробе машины, словно сухое дерево.
Была одна странность в его отношении к ней — только одно письмо он написал ей за все месяцы войны, — ото дня, когда вернулся на фронт и получил машину. Он написал и помнит до сих пор свое единственное письмо.
«Спасибо тебе. Мне было кого защищать на земле до встречи с тобой, теперь это я знаю вдвойне. Нет, не вдвойне — больше неизмеримо. Словно из кубиков, высыпанных на пол, вдруг сложилось огромное слово — жизнь. И в нем все — и то, что было до тебя, и то, что я обрел в тебе, и то, что будет еще потом, когда мы будем вместе. Меня теперь просто невозможно убить, потому что меня ждет жизнь. Ты… Я был хорошим танкистом. Теперь я стану дерзким и злым. Я теперь буду воевать иначе. А когда все кончится, я напишу тебе».