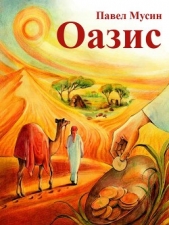Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Арефьев и сам думал так. Когда Меньшенин высказал все это, Арефьев ответил, что он имеет это в виду. Но пока это сложно. Местные условия, глухомань, так сказать. Бюджетом не предусмотрены ассигнования. Хорошо, что принято решение строить торакальную клинику. Вот тогда…
И что-то все-таки не давало Арефьеву возможности объективно взвесить значение приезда Меньшенина. Что-то очень личное даже. Теперь все, слава богу, закончилось и жизнь опять войдет в свою колею. И по опыту прошлой жизни он знал: пройдет время, у мальчишек перестанут кружиться головы от перспектив — они вновь начнут работать спокойно и уверенно в том направлении, как это наметил и освятил он, Арефьев, и как диктуют местные условия. Конечно же, никакого «филиала» сибирского института! Они бы тут натворили такого! И главное — вышли бы из-под контроля.
Он много передумал, смеясь, спрашивая и отвечая, пошучивая, а Меньшенина и Марии Сергеевны все не было, и это становилось ему неудобным. Арефьев с беспокойством глянул на Прутко. Тот понял и вышел. Вернулся Прутко через несколько мгновений: Меньшенин и Мария Сергеевна возвращались.
Пора было прощаться. А у Меньшенина было такое ощущение, точно он не все сделал, не все сказал, не все увидел, что хотел и что был должен. Он вспомнил свой вчерашний вечер в гостинице. Вечер тишины и одиночества. Внизу, на первом этаже, в ресторане, лихо работал оркестр. Но сюда, на четвертый этаж, звук едва доносился — приглушенный и облагороженный каменными стенами, устойчивой по старой моде мебелью и коврами. И горела одна-единственная настольная лампа, и никого не было более в большом двухкомнатном номере с окнами на центральную улицу. И на улице шел снег, от сумерек синий, теплый и настойчивый. Из окна была видна большая часть города, города, о существовании которого он прежде знал только номинально и в котором ничего очень личного, близкого для себя не предполагал.
И то, что он ощутил в этот вечер, он не мог связать ни с одним конкретным лицом. Как бы много ни заняла в его жизни места эта удивительно светлая Мария Сергеевна, он не мог связать с ее обликом этого. Меньшенин всю свою жизнь близко стоял к основной трагедии бытия — жизни и смерти. Иногда прежде беспокойство охватывало его всего, и тогда он не мог работать, думать, писать, тогда в клинике (он знал это) говорили: «у шефа смог». Он знал это от Торпичева — тот, отвечая кому-то по телефону в его присутствии, произнес слово «смог». И Меньшенин тогда усмехнулся: «Смог так смог». Его «смог», в конечном итоге, был приступом тягчайшей тоски, когда возникало ощущение, будто все время едва слышно сосало под ложечкой, захватывало горло. Не хотелось двигаться и думать. Небритый и злой, в теплом, подаренном ему коллегами в Бухаре халате, который, в общем-то, он не любил, он бродил по огромной, почти нежилой квартире. Бесцельно трогал книги, подолгу стоял у окна — то у одного, то у другого, из которого был виден огромный, сверкающий на солнце купол оперного театра.
Его бесполезно было тормошить, пытаться вывести из этого состояния. Никто ни разу не смог этого сделать, хотя экстренные операции он проводил так, точно на время оставлял свою мятежную душу у порога операционной. Выходил он из этого состояния сам. Наступало утро, и он уезжал на аэродром. Не на тот, откуда сам улетал во многие аэропорты мира, не туда, где возвышалось стеклянно-бетонное царственное здание аэровокзала — такси увозило Меньшенина далеко за город, туда, где начинались поля. И там, у самых истоков огромной, точно океан, полого-волнистой степи примостился крохотный аэродромчик легкомоторной авиации, «Кукурузники» и Ми-4 взлетали и садились. И неизвестно почему Меньшенину эта домашняя авиация больше говорила о небе и о пространстве, чем мощные лайнеры. Может быть, сказывалась их доступность и понятность, усвоенная с детства.
Если это происходило летом, Меньшенин медленно брел по колено в траве по окраине аэродрома. Или ложился в эту траву навзничь, не думал ни о чем. А на самом деле сознавал, что в нем происходит колоссальная работа, словно все расстроенное, разрозненное в нем вновь обретало строй и лад.
Зимой он тоже бродил там, проваливаясь в снег. И маячил на краю аэродрома, не зная, что издали для людей, выпускающих эти неуклюжие и послушные машины и принимающих их, он смешон в своей лохматой шапке, черном пальто и черных валенках, которые надевал только для этой цели.
И Меньшенин вспомнил, как однажды двое рослых механиков — они были в замасленных до блеска меховых куртках и теплых унтах — подошли к нему. А было морозно, и пар стоял от дыхания, и заиндевели у парней брови и краешки поднятых воротников, и трудно было определить их возраст по огрубевшим на долгом морозе лицам. Свирепое пронзительное небо и воздух искрились снежной пылью, поднятой только что взлетевшим самолетом.
— Ну что, папаша? Смотрим? — спросил один.
— Смотрим, сынок, — в тон ему ответил Меньшенин.
За кого они приняли этого пожилого человека? Может быть, посчитали дачником — неподалеку были дачи, целое дачное объединение «Заря». У Меньшенина никогда никакой дачи не было. И не будет, потому что не нужно ему это.
— А мы смотрим, — хриплым голосом произнес второй, пониже ростом, — стоит человек. Инженер сказал: «Хлопцы, поинтересуйтесь, может, ждет человек кого, а может, нужно ему что?»
— Нет, ребята, ничего мне не нужно… Вот стою. Люблю это место. И самолеты ваши люблю.
Ребята помолчали, переступили с ноги на ногу — снег проскрипел.
— Вот что, папаша, — вновь сказал первый. — Айда к нам. Чай там есть — погреемся.
Только тут Меньшенин подумал, что его могли принять и за недоброжелателя. И он усмехнулся:
— Пойдем. Холодно все же нынче.
В избушке пахло маслом, по стенам висели схемы каких-то деталей и самолетных частей. Но здесь было как-то очень по-деревенски тепло. (Бывает на свете такое — древесное уютное тепло.) И чайник на плитке кипел на самом деле. А оттого, что он был полон, крышка на нем гремела и подпрыгивала. И Меньшенин испытывал к людям, которые привели его в это тепло и к инженеру их — такому же молодому, как и они сами, и одетому так же, такое чувство, какое, вероятно, испытывает отец к своим сыновьям, занятым высоким, непостижимым для него делом.
Чай пили из эмалированных кружек на длинном дощатом столе, накрыв его для этого каким-то техническим плакатом, и сахар в кусках лежал здесь прямо на плакате, и хлеб был нарезан крупно, щедро, и масло в восковой бумаге колкое, только с мороза.
Техники заговорили с инженером о чем-то своем. А Меньшенин сидел, грея руки о кружку, и чувствовал, что время от времени все трое с любопытством поглядывают на него.
Из их разговора он понял: самолет, который только что взлетел, последний. Они его примут, осмотрят, подготовят на завтра — и это их последняя работа на сегодня.
— Интересное дело у вас, — тихо сказал Меньшенин, — самолеты и небо…
— Мы земные, батя, — сказал высокий. — У летчиков — интереснее, мы — технари. Наше дело — гайки да трубы.
— Интересное, — сказал инженер.
— Да ты, батя, ешь. Чего ты не ешь, в такой мороз масло — первый харч. Вчера сало было, сало, конечно, лучше. Да вот Витька, — высокий техник кивнул головой в сторону своего товарища, — сожрал вчера.
Стало жарко. И Меньшенин расстегнул пальто. Он совсем забыл, что на нем черный пиджак с золотым лауреатским значком. Ему было хорошо здесь. И он чувствовал, что оживает, проходит «смог». Он усмехнулся про себя. Первый техник, высокий, взглядом показал на его пиджак товарищу. Теперь и тот неподвижно уставился на меньшенинский лацкан.
— Я врач, ребята, — тихо и просто сказал Меньшенин.
Ребятам не надо было объяснять, что такое врач со значком лауреата Ленинской премии. Наступила тишина, и как она была не похожа на ту, что была здесь, когда усаживались за стол, когда приходили в себя после мороза.
И Меньшенин уже не мог — не умел просто греть руки, просто впитывать это тепло, просто пить чай и всматриваться в эти начавшие оттаивать мальчишеские, еще не мужские лица.