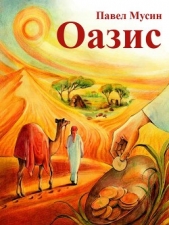Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Простите, — сухо и строго, точно так, как говорил до этого, сказал инженер. — Я вас сразу узнал. Летом вы были здесь Я только что принял отряд. И наш отрядный врач сказал мне, что это вы. Хотя и до этого я слышал о вас.
У инженера было узкое с тонкими чертами бледное лицо. Говоря, он смотрел себе на руки — тоже узкие и бледные.
— Я потому и послал их. Холодно сегодня. Мы едва разогрели машины. — Потом он усмехнулся. — А они, наверно, думали…
Высокий, краснея, перебил:
— Да ничего мы не думали! Что мы думали! — И вдруг все засмеялись.
В этот вечер тишины и одиночества в большом и чужом для него городе Меньшенин вспомнил и это. И еще он вспомнил отца и мать мальчика, которого он оперировал, который еще сегодня, а может быть, завтра и еще несколько дней будет находиться между жизнью и смертью, но уже ближе к жизни… Он видел перед собой, мысленно, и лицо полковника Скворцова, главного хирурга военного госпиталя, и милое, чем-то непонятным волнующее лицо Марии Сергеевны, с чуть припухшими и немного горькими губами, с глубокими черными глазами в тяжелых веках, видел ее ясное чело и висок, который запомнился ему, одинокому, в сущности, человеку, на операции.
Но Меньшенин не много бы стоил в своих собственных глазах, если бы не отдавал себе ясный отчет в том, какое именно чувство он испытывает к этой женщине. Оно родилось в нем давным-давно в то мгновение, когда остался один, оно копилось в нем изо дня в день по мере того, как хирургия забирала у него одного за другим близких, нужных, как воздух, друзей, превращая их — одних в учеников, других в помощников. На сессии один старик академик произнес ему целую речь. Это была даже не речь, а исповедь души. «Что же я такое? — говорил он. — Мне семьдесят лет. Все есть: знания и звания. Погляжу кругом — один. И кто я настоящий — вот этот семидесятилетний бодрячок, всеми уважаемый и опасный для всех — или тот мальчик, в коротких штанишках, что пускает кораблик где-то далеко-далеко?..»
Из вежливости, а также из того, что понял состояние человека, Меньшенин не высказал ему своего отношения. Но он тогда стиснул зубы и со злом, яростно подумал: «Ерунда! Это мелодрама».
Меньшенин помнил всех, кого видел в лицо. Как помнил механиков и инженера. Как запомнилось ему лицо полковника Скворцова и того молодого хирурга, с которым пил кофе. И старшину — отца Коли, и тихую, смятую горем его мать. И все это вместе неожиданно вдруг стало Марией Сергеевной. Меньшенин тихо рассмеялся, глядя в окно на синий от первого снега город. Потом он оделся. Тихо, чтобы Торпичев в соседнем номере не слышал, запер дверь номера, на цыпочках прошел коридор и спустился на улицу. Он бродил по городу до самого позднего часа, когда улицы опустели и прошел весь прозрачный и пустой — последний в эту ночь автобус.
И теперь он улетал.
Группа людей, негромко оживленная, в ломких синеватых накрахмаленных халатах, спускалась по гулкой лестнице клиники. Несколько поодаль, уже без блеска и говора, в колпаках и рабочих халатах шли хирурги клиники. Эта вторая группа редела — одному нужно было в перевязочную, кто-то остался в реанимации, кто-то задержался с больными, курящими на лестничной площадке. И Меньшенину неудобно было оглянуться, идет ли следом Мария Сергеевна.
А она с Прутко и Мининым спускалась следом, думая о нем и все так же держа стиснутые кулачки в карманах халата.
Меньшенин понимал, что теперь, после его ухода, врачи клиники испытывают облегчение. Но он понимал также, припомнив себя молодого, что, как бы ни хотел Арефьев, люди, увидевшие перспективу, не остановятся. «Трудно тебе, Арефьев, будет теперь», — вдруг с неожиданной злостью подумал Меньшенин. Потом, в нескольких шагах от выхода, он остановился — коренастый и грузный — и сказал твердо и громко, для всех сразу:
— Ну, если, профессор, не лаборатория и не филиал нашей клиники, то хотя бы гипотермия! Гипотермия и операции на сухом сердце — это-то вполне возможно…
Арефьев поглядел на него долгим взглядом и не ответил. Меньшенин вздохнул и резко пошел вперед.
Он улетал. И хотя он двигался, говорил, шагал, — все делал решительно и почти сердито, в душе он испытывал какую-то неуверенность, словно чего-то он не успел высказать или сделать важного.
Провожали его трое. Арефьев, завоблздравом и Жоглов. И когда машина — обкомовская «Чайка» — подкатывала к зданию аэровокзала, в боковое огромное, точно оконное стекло он увидел прижавшуюся к тротуару зеленую линейку военного госпиталя, на душе у него потеплело. Это был полковник Скворцов. Он стоял возле своей машины, маленький и аккуратный, как настоящий скворчик, и тревожно, не оглядываясь, глядел на подошедший черный автомобиль. И взгляды их встретились. Меньшенин за стеклом разлепил сухие губы и улыбнулся.
…И все-таки Мария Сергеевна ощутила облегчение. Не надо более ставить перед собой эти страшные вопросы — быть или не быть, не надо вглядываться в свою юность и молодость, и можно жить по-прежнему. Заняться дочерьми и мужем, привести в порядок мысли и душу. Такого напряжения она еще не испытывала, сколько ни припоминала — не могла вспомнить. В дни войны, когда было трудно и когда горько было терять близких, словно братья, ребят, в самой глубине души все оставалось в порядке, на месте — ничего в душе не нужно было изменять. И всегда, пусть даже после самого трудного дня, еще оставались какие-то физические и моральные силы — работать и мыслить.
А времени еще оставалось много. Еще не закончен был обход, не все перевязки сделаны. Еще надо побывать в материальной и составить требование на завтра в аптеку, еще надо было поработать с историями болезни. А силы иссякли. И словно потускнел день, прекрасный осенний день со снегом, который неожиданно пошел, точно специально в минуту отъезда Меньшенина, и прямо на глазах выбелил асфальт, и все летели и летели какие-то удивительно мохнатые снежины.
КНИГА ВТОРАЯ
Он ударил, этот ранний снег. Он пошел, повалил, исчезая на тротуарах и на мостовой. Он таял даже на чугунных плечах поэта, и талая вода струйками стекала по чугунной его крылатке. Только в чугунных кудрях его он оставался блестками седины. Пушкин казался живым. Ощущение этого было так явственно, что у Светланы как-то тревожно и томительно билось сердце. Точно оно было нездорово. Биение его она слышала в себе: оно было долгим — таким, что даже замирало дыхание.
Снег стыл на куполах и на крышах, на ветвях в Александровском саду. Звуки, шорохи, покрикивания автомобилей, отдаленные вздохи вокзалов, несмолкаемый, непрекращающийся от зари до темна гул человеческих шагов, шорох одежды, — все, чем бывает наполнена Москва, словно прижалось к асфальту, к бетону, к камню набережных, оставляя свободным низкое и все же просторное небо. И в этом небе едва уловимо, слышимый только сердцем, чем-то далеким и чутким, плыл звон. Словно колокола, не звонившие с незапамятных времен, пели теперь медью и серебром от снега.
И это была еще не зима. Это был праздник. Он застал Светлану на площади Пушкина. И не было ни вокруг, ни в ней самой ничего привычного, точно впервые в ее жизни падал этот необыкновенный снег.
Письмо от отца пришло неожиданно. Светлане повезло: бабушка еще не вставала, и за почтой сходила сама Светлана. Конвертик выпорхнул из вороха корреспонденции, где были две бандероли для бабушки, кипа всевозможных газет. Твердый почерк, которым был написан адрес, был незнаком. Светлана еще никогда не получала от отца писем. Встреча с ним, с его матерью в тихом и чистеньком Никоновском переулке наполнила ее душу какою-то взрослой грустной силой. Но он улетел на незнакомый и пугающе огромный Север. Она сама провожала его к просторному гулкому аэродрому.
По неторопливости отца, по какой-то необыкновенной сдержанности и четкости в движениях и словах Светлана поняла, что отец привык, умеет и любит летать. И расстояние в десять тысяч километров, которое не умещалось в ее сознании, для него, в сущности, привычное дело. И еще он в этой толпе, в своем коротком, почти спортивном плаще, с седеющим бобриком волос, в которых сверкали капельки московского дождя, со своим сухим лицом с резкими, но не старыми морщинами — от крыльев носа и углов узкого, четкого рта и над переносицей — был таким, что его нельзя было не заметить среди множества людей.