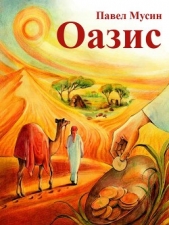Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дверь в послеоперационную палату была приоткрыта — там тоже горел свет у сестринского поста. Тоненько с шорохом колотились пузырьки кислорода в колбе с водой на стене, пикал кардиограф, и по круглому стеклу его индикатора бежал голубой электронный лучик, отмечая работу сердца девочки.
Мария Сергеевна вошла, взглядом успокоив сестру, поднявшуюся было со своего места, и взглядом же спросила, как дела. Та бледной тоненькой рукой коснулась листа с записями на столике под лампой. Беспокоиться пока было нечего. Но Мария Сергеевна сама смерила еще раз давление и осторожно, чтобы не потревожить, послушала ребенка, чуть притрагиваясь к тонкой кожице возле операционной повязки. Мария Сергеевна помнила, с каким шумом и шипением, точно там стояла паровая машина, билось это сердце еще несколько часов назад. И теперь оно еще частит, но тон его стал чистым и четким. Придавленный промедолом, ребенок спал, мерно и глубоко, но еще часто дыша. И температура еще держалась, и давление было высоковатым. Но это пока было в порядке вещей. И более всего Мария Сергеевна опасалась как раз падающего артериального давления — это осложнение грозное. По военным делам юности — оно всегда представлялось ей, как тот прорыв немецкой отступающей колонны в Померании, когда они, эти гитлеровцы, вышли из леса и буквально захлестнули, затопили аэродром. Словно серо-зеленая вода залила летное поле, здания служб и штаба — только госпиталь остался нетронутым ими, потому что был в стороне, — а когда они схлынули — остались повсюду только головешки, обломки да трупы ребят-летчиков и офицеров, изнасилованных и истерзанных девушек-оружейниц из БАО. Падающее давление после операции — такой же прорыв…
Тени от ресниц, занимавшие половину маленького лица, дрогнули, и пошевелились запекшиеся губы. Мария Сергеевна еще постояла над девочкой и потом, коснувшись кончиками пальцев руки медсестры, пошла вниз.
— У нас есть широкий, но не длинный халат? — спросила она бабу Веру в приемном.
Такого халата не было — все в отделении были высокими и худыми, словно на факультете физвоспитания. Был, правда, накрахмаленный халат Арефьева. Он висел на отдельной вешалке. Но он с трудом, наверное, налез бы на могучие плечи Меньшенина, да и длинен он окажется для него — невысокого и кряжистого. Но лучшего они не нашли.
Мария Сергеевна вышла на освещенные бетонные ступени клиники в тот самый момент, когда Меньшенин неловко, как-то спиной, выбирался из нарядной арефьевской «Волги».
Он не протянул ей руки, остановившись, ступенькой ниже, а она сама не решилась этого сделать первой. Он виновато и нерешительно улыбнулся, точно спрашивал, можно ли ему улыбнуться сейчас.
— Я очень рада, профессор…
Халат оказался ему длинноватым, как она и предполагала. Но Меньшенин оглядел себя и усмехнулся, точно сказал: «А, черт с ним, с халатом!»
— Покажите вашу девочку, — сказал он.
Девочку он слушал голым ухом, закрыв глаза. Потом кивнул Марии Сергеевне.
— Все нормально.
Она провела его к себе, в малюсенький кабинетик «зав. отделением».
— Знаете, — сказал он, грузно садясь в кресло, единственное здесь. — Одиноко все же в чужом городе. И грустно. Особенно по ночам.
— А этот человек… Торпичев, кажется?..
Меньшенин усмехнулся добро и грустно.
— Торпичев… Вы, наверное, удивлены, что я взял с собой не операционную сестру, не ассистента-хирурга, а Торпичева?
— Даже не знаю, как вам ответить, Игнат Михайлович. — Необычно это… Я боюсь его.
Меньшенин помолчал:
— Торпичев очень добрый человек. Словом, мы с ним вместе работаем много-много лет. От самого начала.
— Хотите кофе? — спросила она и, видя, что он чуть медлит с ответом, добавила: — Или чаю?
— Чаю!.. Да-да. Чаю. От кофе у меня уже лицо пухнет.
Когда Мария Сергеевна заваривала чай (кипяток здесь был всегда), когда готовила чашки в раздаточной, ей было как-то покойно и легко оттого, что этот человек сидит в ее кабинете и ждет, пока она приготовит чай. Часы, проведенные с ним на операции, те короткие разговоры, которые им случалось вести на людях и один на один, весь его облик, ищущий доверия и дружбы и сам предлагавший это и готовый к этому, как-то растворили грань, отделявшую их друг от друга. А вернее, грань, отделявшую его от всех, кто его окружал. Так она думала, разливая чай и ставя чашечки на поднос — обыкновенный больничный поднос из какого-то немыслимого пластика.
И ее совсем не занимало, что это виднейший хирург с мировым именем, лауреат и прочая и прочая. Просто это был одинокий, в сущности, человек.
Она принесла чай. Он принялся пить его вприкуску. И маленькая чашка совсем терялась в его огромных руках, точно пил он из пригоршни. Она улыбнулась. И он сказал:
— Привычка с детства. Я же саратовский… — Он сказал это «саратовский», окая. — Водохлебы мы. В Алексеевке Верхней чай пьют, в Алексеевке Нижней слышно. А меж ними десять верст…
— Мне нравится, как вы пьете…
— А ведь недаром я напросился к вам в гости, — неожиданно весело сказал Меньшенин. — Очень захотелось поговорить с вами. Мне очень бы хотелось взять вас в клинику к нам, в Сибирск. — Он рукой предостерег ее от возражений и ответа. — Я не в том возрасте, чтобы кривить душой. Да и не мог этого делать никогда. Видимо, у каждого человека наступает особенная пора: хочется друзей. И даже не много друзей — одного, двух. И если бы я знал, что вы можете ответить согласием на мое деловое предложение, я бы высказал его прежде всего вашему шефу. Но я знаю: это для вас невозможно, и я пришел просто оттого, что о невозможности этой очень жалею. Вот и все, милая Мария Сергеевна.
Фразы его были длинными и тяжеловатыми. Но он говорил так же, как работал, — завершенно и четко. И то, что он говорил и как говорил он это, дорого было для нее. Точно она знала Меньшенина много лет и много лет испытывала к нему ту дружбу и доверие, которые сейчас овладели ею. А ответить ничего она не могла — он сам ответил себе этими словами. И замолчал. Она тоже молчала, трогая кончиками пальцев края чашки, из которой не отпила ни глотка.
После долгой паузы, которая не мучила их обоих, он внезапно сказал:
— Вы думаете, я люблю оперировать? Знаете, когда я вижу в аспиранте эту всепоглощающую жажду — оперировать, оперировать, оперировать, меня берет оторопь и мне делается не по себе. Врач — это больше, чем хирург. Я — врач. И надо мне было дожить почти до старости, чтобы понять эту простую истину. Не умом — умом-то я ее принимал давно. Но чтобы исповедовать… — Он хотел добавить, что такое же точно он нашел в ней, что это очень важно для него, для работы, но он не сказал этого: она понимала его и так.
В последнюю встречу, когда он приехал в клинику прощаться, в ординаторской, глядя на него среди своих врачей, среди сопровождавших его людей в белых халатах — тут были и из облздрава, и Арефьев, все как положено, чтобы проводить человека с мировым именем, — глядя на него (на нем был белый, почти голубоватый халат — не тот операционный, завязанный на спине, а парадный, как мундир, профессорский, приоткрывавший лацканы черного пиджака — и там, переливаясь, торжественно сверкнуло лауреатское золото), — каким-то внутренним зрением она увидела и его грусть, и растерянность, и все это сквозь оживление и привычную распахнутость его. Видимо, скорее всего с Арефьевым они, прощаясь, выпили. Она глядела в его дорогое и понятное ей лицо и вдруг подумала, что это хорошо, что он в конце концов уезжает — можно будет прийти в себя, отдохнуть, расслабиться, по-прежнему подумать о детях, о муже.
Меньшенин шутил, смеялся, говорил какие-то слова врачам, благоговейно внимавшим ему и стеснявшимся всей его свиты, вдруг расставившей всех присутствующих по ступенькам. Если еще вчера он, оставаясь профессором и замечательным хирургом, был их же поля ягодой, то теперь люди, пришедшие с ним, отдаляли его от них.
Марии Сергеевне показалось, что он и сам понимает это, и ему неловко, и оттого он так оживлен и ничего не может поделать со всем этим.