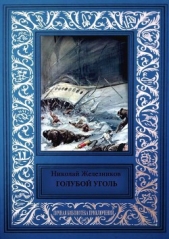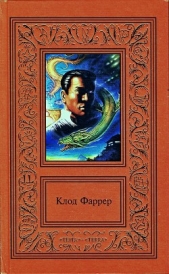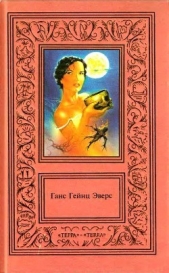Сочинения в 2 т. Том 1

Сочинения в 2 т. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы оба писатели-донбассовцы, товарищи? Отлично. Вам оказана честь — нести венок…
Он провел нас в дальний угол зала, и, среди других многочисленных надписей на траурных лентах, мы еще издали заметили черное, в угольных блестках слово на белом фоне — ДОНБАСС…
Не знаю, кто устанавливал порядок следования делегаций, но мы, донбассовцы, следовали за урной первыми; и скромные гвоздики, выращенные у терриконов, и пронзительно-синие васильки, сорванные в наших донецких степях, и печальные розы, цвета свежей крови, вплетенные в венок, мы донесли до самой Кремлевской стены и бережно опустили на свежую зелень газона.
Война расшвыряла, разлучила миллионы людей. Миллионы этих разлук так и не были вознаграждены встречами. Сколько нежных надежд, неизбывных тревог и терпеливых ожиданий поглотила немая, разрытая земля!
Отступление — путь горечи и печали, на котором даже собственное сердце становится тяжким грузом. И нет утоления жажды — вычерпаны криницы. И нет утешения — пересохла душа. Потому что солдату было втройне труднее отступать через эти с детства знакомые степи и долы, милые памяти шахтерские поселки, полустанки, взбудораженные города.
Я находился на Южном фронте, и наша часть отходила через Донбасс. Пережитое за последние дни отпечаталось в памяти, как отрывочные, резкие кинокадры. В Горловке бой шел на крутом извороте улицы у подножия террикона шахты «Кочегарка». Там, на отлогом откосе, где когда-то шумел глинобитный «Шанхай», горловчане хранили под большим стеклянным колпаком в назидание поколениям чудом уцелевшую старую шахтерскую землянку. У землянки и закипела схватка. Черные тени эсэсовцев стали подыматься из рытвин заброшенного селения, как из могил. Из окна каменного домика, что через дорогу, по ним ударил пулемет. Тени всполошенно падали и снова медленно поднимались, переползая все ближе к дороге. Слепок старого, клятого мира — землянка стала на время их укрытием и опорой. Черное воинство, суетясь, надрываясь, поднимало тот давно опрокинутый мир… А потом произошло нечто похожее на чудо: из-за крутого изворота улицы, волоча за собой тучу пыли, выметнулась лихая четверка лошадей. Какие-то мгновения, и вот уже отцеплена, развернута пушка, и звонко звучат русские слова команды, и брызжет в сторону заметавшихся теней яростный рыжий огонь…
Так разбивается в пыль еще один вал наступления (тысячный или миллионный?); всплеск, и удар, и трупы, разбросанные у террикона, и, после грохота пушки, — удивительная тишина. На изрытой, дымящейся улице я постучался в квартиру Павла Григорьевича. Никто не отозвался. На крылечке валялась маленькая искалеченная кукла и поблескивало битое стекло. Я постоял у крылечка и пошел в сторону Никитовки на близкие дымы бомбежки — в том направлении отходили наши войска.
Где-то под Луганском я встретил поэта Юрия Черкасского. Обнялись, оглянули друг друга, — что же мы, постарели или только повзрослели? Затягиваясь душистым дымом махорки, Юрий сказал:
— Я напишу Паше Беспощадному, что ты его искал, будет очень тронут. Мы успели отправить его, тяжелобольного, с женой в Таджикистан.
Я спросил у Юрия о его планах, и он, досадуя, стал рассказывать, сколько огорчений принес ему луганский военком:
— У меня, понимаешь ли, такое впечатление, что военком, солидный человек, полковник, всецело находится под каблуком, ты знаешь у кого, у немощного старичка-окулиста! Я всех эскулапов геройски прохожу — годен! А как только к этому злополучному старичку сунусь, сразу же от ворот поворот. Я к военкому. И снова к военкому, и снова, и так, наверное, уже пятнадцать раз! Недавно он указал мне на дверь: уходите и не мешайте, ни слепых, ни полуслепых мы в армию не берем. — Он грустно задумался: — Ты должен понять, как мне обидно. Все товарищи в армии, в боях. Где же быть и мне, коммунисту, поэту, если не там, где ежедневно решаются судьбы Родины? Работаю в областной газете, а разве не мог бы работать в армейской или дивизионной? Решил — к высшему начальству буду стучаться, а своего все-таки добьюсь.
Мы тепло расстались и больше не встретились. На протяжении ряда лет я внимательно следил за творческим развитием этого одаренного поэта и любил его стихи. Прошло немного времени, и кто-то из офицеров нашей части сообщил мне, что Юрий Черкасский погиб в бою.
В те дни в Луганске я встретил украинского поэта Евгена Фомина. Мы виделись в Киеве более года назад, но Киев остался далеко за линией фронта. Внешне Фомин почти не изменился, только выглядел очень усталым. Грустно улыбнувшись, он спросил:
— Скажи мне по секрету, когда же оно кончится, отступление?
— Ты разве не знаешь?
— Очень хочу знать.
— Когда мы остановим гитлеровцев.
Мы стояли в узеньком переулке; над нами склонилась запыленная ветка вишни; Фомин небрежным движением сорвал листок.
— Ты знаешь, мне снится Киев. И ночами снится, и видится днем наяву… Я знал, что люблю этот город, но, поверь, не чаял, что так сильно, так невыразимо люблю. — Осторожно разглаживая на ладони вишневый лист, он говорил тоном просьбы: — Не подумай, я не жалуюсь. В армию не взяли по состоянию здоровья — кому пожалуешься? В этот славный шахтерский город я пришел пешком. Ноги мои покрыты волдырями, но… — и он мечтательно закрыл глаза. — Но если бы случилось чудо, сейчас, в эту минуту случилось, и мне сказали: «Киев свободен, возвращайся!» — я полетел бы на крыльях, шел бы неутомимо, а подкосились ноги — стал бы ползти…
Плечи его дрогнули, и голос пресекся, он поспешно наклонился, поправляя шнурок ботинка, чтобы я не заметил слез.
Не знаю, как случилось, что Евген Фомин остался в Луганске в час отхода из города наших последних рот? Быть может, заболел или опоздал с отъездом? Каких неожиданностей не случалось в те суровые дни! Он увидел Киев. Он вернулся в Киев через оккупированные фашистами области: шел глухими селами, ночевал в степи. В Киеве он был схвачен гестапо и расстрелян.
А несколько позднее мимолетной и последней встречи с Фоминым — другая весть отыскала меня на фронте: в лесистых горах Кавказа, на ленте шоссе за Майкопом, упал, сраженный осколком бомбы, мой чудесный товарищ, большой поэт — Кость Герасименко.
Молва неприметно скользит и крадется по фронту, находя рано или поздно адресата. Гибель Костя Герасименко отозвалась в сердце незатихающей болью, — в пламенном, звонком Донбассе мы с ним доверчиво делились каждой радостью и печалью, каждой откованной строкой.
Шло время, и в один из дней нашего всеобщего наступления, когда руины бессмертного Сталинграда уже остались далеко позади, а на западе, в дымке знойной, изрытой, истерзанной степи героям Волги и Дона все явственней чудились проблески серой днепровской волны, — в один из тех горячих деньков мне довелось шагать кремнистыми проселками Краснодона.
Здесь начинался Донбасс, Каменные домики шахтерских поселков, тополя в палисадниках, сизые громадины терриконов, узорчатые башни электропередач, сам воздух с тонким пронзительным привкусом гари, — все было до боли знакомо в родном шахтерском краю, и верилось в близкие, трогательные встречи.
Я узнавал парк молодого города — клены, акации, заросли сирени вдоль аллей; мне помнился дружный, веселый субботник, когда шахтеры — сотни семей — явились сюда с гармошками, лопатами, гитарами, ломами. Они явились утром на захламленный пустырь, а вечером расходились по домам уже не с пустыря, — из молодого парка.
По этим свежим, едва лишь проложенным аллеям в тот вечер мы гуляли втроем: Кость Герасименко, Павел Беспощадный и я. Заметно взволнованный, Костя читал нам вполголоса новые стихи… Потом стихи читал Беспощадный.
Как же иногда запоминаются подробности! Он был в белоснежной сорочке (от густого брусничного заката она казалась розоватой и влажной), ворот нараспашку, длинные волосы отброшены со лба. От него пахло одеколоном «Свежее сено», и сам он выглядел загорелым, свежим степняком, с затаенной энергией в ясном взгляде. Осторожно касаясь пальцами молоденького деревца, Павел читал!