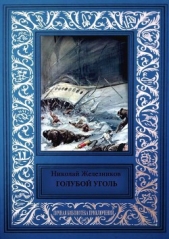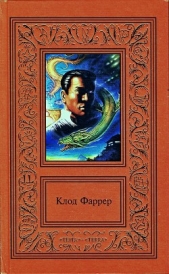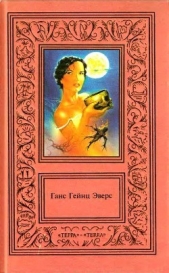Сочинения в 2 т. Том 1

Сочинения в 2 т. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мне нравится настройка этих стихов, — заметил Герасименко, негромко повторив заключительные строки. — Я слушал тебя, Паша, и, знаешь, о чем подумал? Почему-то подумалось о том, что, быть может, через десятилетия, когда эти деревья станут большими, мы снова, трое пожилых, седовласых дядек, остановимся здесь же, на аллейке, и взволнованно вспомнится нам непередаваемое, несказанное чувство, которым сейчас мы охвачены на этой согретой руками, любовно возделанной земле…
В жизни, как известно, не бывает чудес, а неожиданное — лишь непредусмотренное. Но в тот горячий денек в притихшем, обезлюдевшем, прифронтовом Краснодоне я не мог не поверить в чудо. Из-за поворота аллеи навстречу мне вышел (нет, я не обознался, это был он!), да, навстречу мне вышел Павел Беспощадный.
Через этот скромный шахтерский городок лишь совсем недавно прогромыхал фронт. И совсем недавно стала известна бесстрашная эпопея молодых краснодонцев. Я приехал сюда по командировке фронтовой газеты, чтобы встретиться с матерью Олега Кошевого и рассказать воинам о славных делах молодогвардейцев. У Кошевых я застал Александра Фадеева, — он, вместо хозяйки, гостеприимно открыл мне дверь.
— Кажется, нашего полку прибыло? — сказал он, быстро оглянув меня с ног до головы. — Газетчик с фронта? Я не ошибаюсь? — И посторонился с пороги. Прошу, проходите, отдыхайте. Правда, хозяйка отлучилась по делам, но она скоро вернется. А пока садитесь и рассказывайте новости…
Никаких сенсаций у меня не было; обстановку на фронте он знал не хуже меня; поэтому я не стал рассказывать, а сам начал расспрашивать, но, ответив на два-три вопроса, Фадеев запротестовал:
— Одну минутку! Я не даю интервью… Очень прошу вас: не нужно сообщать через газету, что я нахожусь здесь. У меня огромная работа, и я не хотел бы, чтобы меня отвлекали.
Кошевая пришла через несколько минут: стройная женщина с благородной осанкой, скромная, сдержанная, красивая, с горькими черточками скорби, затаенными по углам губ. Пришла и ее мать — бабушка Олега, и, отложив свои домашние дела, они стали рассказывать мне о недавних событиях в их городе и в их семье. Я почти не задавал вопросов, только записывал, чувствуя, как к горлу подкатывает комок нестерпимой горести и гнева.
В чистенькой, скромной квартире Кошевых стояла настороженная тишина. Такая тишина бывает, если из семьи ушел кто-то очень дорогой и его ждут. Из этой семьи недавно ушел на высокий смертный подвиг чудесный мальчик — Олег, и его не следовало ждать. Но именно его здесь недоставало, а сердцу матери не прикажешь: оно не верит в смерть.
После полудня, исписав объемистый блокнот, я простился с Кошевыми. До калитки меня провожала бабушка Олега. Осторожно отклоняя поникшую над тропинкой ветку сирени, она сказала:
— Эти кусты Олежек насадил. Он очень любил наш городок, и эту тихую улицу, и особенно молодой парк. Там сейчас — братская могила. Может, нет на всем свете других таких могил — в ней люди зарыты живыми, и они умерли стоя и, умирая, пели… — Она опустила голову. — Таковы наши краснодонцы. Я век прожила меж этими людьми и лишь на старости лет узнала, какие они удивительные. Да, и мой Олежек был удивительный, а кто бы мог подумать? Вот и сейчас — писатель у нас живет. Как его, Фадеев? Тоже удивительный. Дни и ночи все пишет, пишет, а иногда вскочит из-за стола, прошагает от стены к стене, вроде бы как по клетке, голову руками обхватит, — застынет, затихнет… Мне, правду сказать вам, жаль человека: это ж не шуточное дело, так мучиться над бумагами! А прошлой ночью прокинулась я на своей раскладушке, прислушалась: нет, опять не спит. И вроде бы тоненький детский голос откуда-то слышится. Привстала я — дверь в его комнату открыта, и от луны совсем светло: вижу, стоит он у окна, рослый, седой, в белой исподней рубашке, руки на груди сложил, и рубашка та, белая, вся рябью идет, будто от ветра. Это знаете, страшно: большой, сильный человек, с виду — из железа кованный, а тут, в одиночестве, в тишине, плачет навзрыд, как ребенок, и нет утешения тем слезам потому, что они из сердца.
Я шел пожухлой муравой мимо сиротливых домиков шахтерского городка, и в черных глубинах окон мне чудились лица шахтерских ребят — Тюленина, Земнухова, Кошевого. И тишина ожидания неотступно шла за мной, тишина, в которой не верят смерти.
В парке я не встретил ни души; ветер — прогретый степняк — оставлял на губах скользкую горечь полыни; топко поскрипывал, жалуясь, израненный осколками клен; черная птица одиноко кружила в небе.
И мне подумалось, что в жизни бывают минуты, когда необходимо остаться одному, чтобы осмыслить и пережить страдание, и что это очень трудные минуты: именно в течение их медленного отсчета вызревает крайняя решимость и пепел осыпает волосы. Тогда просыпается тоска по другу, по товарищу, по встрече с ним: вдвоем все же легче справиться с бедой, чем в одиночку. И такая встреча, похожая на чудо, состоялась: из-за поворота аллеи вышел и, вскинув руки, замер передо мной исхудавший, седой и до крайности изумленный Павел Григорьевич Беспощадный.
Какое-то время мы стояли молча и не могли разнять рук. Клен ласкался веткой о наши плечи, и пропахший полынью ветер степняк обдавал нас горячим дыханьем.
— Ты помнишь… конечно, помнишь? — спросил он, отстраняя ветку и задерживая ее в руке. — На этой самой аллее…
— Да, помню: ты, Герасименко и я…
— И Костя читал вот эти стихи:
— Я помню и твои стихи, Паша: «Наши ль мускулы остынут?»
Он задумчиво улыбнулся.
— Эти деревья были такими маленькими! Удивительно, как пронеслось время! А теперь я прихожу сюда ежедневно, вспоминаю день рождения этого парка, и нашу задушевную беседу на закате, и ощущение молодости, энергии, силы, словом, поэзии, переполнявшей нас.
Вчера на этой аллейке как-то нечаянно у меня сами сложились стихи.
Вот послушай:
Мы долго ходили по аллеям, по пустынным улицам городка, и Павел Григорьевич все читал и читал стихи… Неожиданно он спросил:
— Помнишь нашу поездку в Одессу? Кто мне особенно запомнился из одесских поэтов — это Вадим Стрельченко. Был он примечателен, светлый, кристально чистый паренек! А его стихи, исполненные радости жизни! Яркие, вещные, пронизанные солнцем строки… Жаль, жизнелюбец Вадим Стрельченко пал в бою. — Беспощадный задумался. — Мы дорого платим за спокойствие этих родных просторов, за счастье трудиться, растить детей, слушать песни, смотреть на звезды… Да, кстати, недавно я посвятил стихи сынишке: «Я спокойно смотрю на звезды, под которыми ты живешь»… И мне запомнились два четверостишия:
На краткий командировочный срок я остановился, конечно, у Беспощадных, — возвратись из эвакуации, они обитали в маленькой скромной квартирке у подножия старого террикона. Эту квартирку, как вскоре я убедился, знали уже многие краснодонцы — рядовые шахтеры, инженеры, строители, вожаки первых восстановительных бригад. Они заходили к Павлу Григорьевичу под вечер, рассаживались на тесном зеленом дворике за столом, а гостеприимная хозяйка, Елизавета, разливала в жестяные кружки ячменный кофе и строго делила кусочки пайкового сахара. Сразу же затевался разговор об угле, о подорванных и затопленных шахтах, о том немыслимо великанском труде, который предстоял донбассовцам на их каменной ниве.