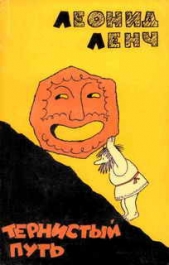Из рода Караевых
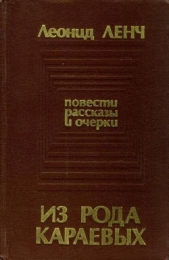
Из рода Караевых читать книгу онлайн
В сборник известного советского писателя Л. С. Ленча (Попова) вошли повести «Черные погоны», «Из рода Караевых», рассказы и очерки разных лет. Повести очень близки по замыслу, манере письма. В них рассказывается о гражданской войне, трудных судьбах людей, попавших в сложный водоворот событий. Рассказы писателя в основном представлены циклами «Последний патрон», «Фронтовые сказки», «Эхо войны».
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кто это? — спросил я отца Димитрия.
— Мой близкий друг, поручик Тугомышев Владимир Иванович.
— Хороший портрет, — сказал я, — просто серовское проникновение в человеческий характер.
Монах промолчал.
— Не ваша ли это работа, отец Димитрий?
— О нет. Это Володин автопортрет. Из него мог бы выйти большой художник!
— Он жив?
— Нет. Но если вас интересует, я могу рассказать вам о судьбе этого человека.
…Владимир Тугомышев учился в Строгановке, на первую мировую войну пошел добровольно в тысяча девятьсот пятнадцатом году, окончив школу прапорщиков. Воевал храбро, получил солдатский Георгий. Потом попал по мобилизации в белую армию, к генералу Деникину. После поражения Деникина оказался в Крыму, у Врангеля, а потом — в Галлиполи. И здесь зверски затосковал по своему призванию — призванию художника. Друзьям, в ответ на все их утешения, говорил: «Пять лет или в меня стреляли, или я в кого-то стрелял. Знал и так мало, а то, что знал, забыл!»
Художники — юнкера и офицеры из врангелевских полков — собирались в своей любительской студии. Она помещалась в полуразрушенном здании, где гулял ветер, забивал глаза пылью. Художники в погонах писали портреты местных жителей — армян, греков, турок — тех, кто соглашался позировать им, рисовали карикатуры на Бриана, на Ллойд Джорджа, на галлиполийское французское начальство. Обсуждая свои работы, спорили, витийствуя до рассвета. Соборно молились богам из «мира искусств»; Добужинскому, Бенуа, Яковлеву, Рериху, Баксту, Лансере. И, конечно, Серову.
Однажды Владимир Тугомышев взялся написать греку-лавочнику, рыботорговцу, вывеску для его лавки. На выручку рассчитывал купить красок для студии и хоть разок покутить с друзьями-художниками в ресторанчике, вспомнить Москву, Строгановку.
Заказчик-грек потребовал, чтобы на вывеске была изображена его лавка с фасада, его фелюга, он сам и обе его дочки — чернокосые толстухи с лицами макбетовских ведьм.
Владимир Тугомышев все это честно изобразил — с импрессионистским жаром. По словам отца Димитрия, особенно хороша была на вывеске фелюга с ее парусом цвета лимонной корки на фоне густо-фиолетового моря. Грек-рыботорговец работу Тугомышева, однако, не принял и деньги заплатить отказался, потому что художник не выполнил его главного требования: заказчик хотел увидеть себя на вывеске обутым в лакированные полуботинки, а на слоновых ногах дочек должны были быть надеты белые чулки — символ материального благополучия и кредитной устойчивости галлиполийского лавочника.
Грек потребовал переделок, Тугомышев сказал, что до такого «идиотского натурализма» он никогда не унизится.
— Володя назвал грека в пылу спора «проклятым недорезанным буржуем», — сказал отец Димитрий, усмехнувшись, — а грек Володю, белого офицера, «больсевиком», которого надо вздернуть на «виселку». Представляете?!
Из Галлиполи Тугомышев попал в Болгарию и тут оставил врангелевскую армию. Он заработал немного денег на реставраций церковной стенописи, добился визы и уехал в Париж. Он мечтал: «Пойду к французам, к нашим, бухнусь в ноги. Не дадут пропасть. Буду им, чертям, краски тереть, сапоги чистить, только учите!»
В Париже Тугомышев стал… таксистом. Обычная история. Ведь в этой Мекке художников нищим дервишем влачил некогда свою жизнь даже несравненный Модильяни. Тугомышев — иностранец, эмигрант, недоучка — пробиться не смог. Женился на девушке из бедной эмигрантской семьи. Надо было зарабатывать деньги на жизнь — кисть и карандаш прокормить его не могли. Он писал картины — для себя, в русских эмигрантских газетах иногда мелькали его графические рисунки. Когда начались события в Испании, Тугомышев неожиданно для друзей и близких уехал в Мадрид, воевал с фашистами на стороне республики. После ее поражения оказался во французском концлагере. Потом узнал безработицу, голод. Жена от него ушла. В оккупированном немцами Париже Тугомышев, уже старый, больной человек, стал бойцом французского Сопротивления, выполнял самые опасные поручения подпольщиков.
В этом месте своего рассказа о Владимире Тугомышеве отец Димитрий замолчал, отвернулся. Я выждал, пока он справится со своим волнением, потом спросил:
— Какие это были поручения, отец Димитрий?
— Он рисовал карикатуры на Гитлера, на фашистов и расклеивал их на стенах домов вместе с листовками маки. Его схватили. Эсэсовский патруль расстрелял его здесь же, у стены, на которую он успел наклеить свой последний рисунок.
— Славная смерть! — вырвалось у меня. — Смерть солдата и художника.
— Смерть есть смерть! — уклончиво сказал отец Димитрий. — Я писал в Париж общим знакомым, просил узнать, сохранилось ли что-либо из Володиных работ. Ничего не сохранилось!.. Живи он в другое время, мог бы стать вторым Серовым!
На языке у меня вертелся один вопрос к отцу Димитрию, но не хотелось показаться неделикатным. Все же я его задал:
— А как сложилась ваша жизнь, отец Димитрий? Ведь вы тоже собирались стать художником.
Он искоса взглянул на меня:
— Схиму я принял по внутреннему убеждению.
— Давно?
— Больше тридцати лет тому назад.
— И все эти тридцать лет провели в монашеской келье?
— Да!.. Каждый идет по жизни своей дорогой.
Глаза его подернулись ледком отчужденности. Я понял, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, и стал прощаться.
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ МАРШ
Немцы нащупали слабое место нашей обороны, ударили в стык двух армий и прорвались силами одного танкового батальона. Но к вечеру в прорыв вошел их танковый полк, к утру — дивизия, а за ней эсэсовский танковый корпус. Это уже была катастрофа. Многие наши части оказались отрезанными, им предстоял кровопролитный выход из окружения, в которое они попали.
Штаб фронта со всеми его учреждениями первого и второго эшелона на рассвете прохладного ясного октябрьского дня покинул лес, в котором располагался, как нам казалось тогда, очень прочно, и мы на машинах стали поспешно уходить на восток по единственной дороге, еще не перехваченной неприятелем.
Я ехал в редакционной эмке вместе с писателем В. — милым чудаком и философом. В нежном возрасте В. перенес детский паралич, при ходьбе слегка волочил ногу, курил длинную капитанскую трубку, острил тонко и несколько книжно, а представляясь фронтовому начальству, именовал себя спецкором журнала «Мурзилка» на энском фронте.
На войну он пошел добровольно, но ему пришлось сильно похлопотать и понервничать, прежде чем он убедил военкоматских медиков в том, что способен по состоянию своего здоровья занять штатную должность писателя фронтовой газеты.
К середине дня, когда цепочка наших машин была уже далеко от родимого леса, синее, удивительной глубины и нежности небо стало заволакиваться тучами. К вечеру, когда мы добрались до большого лесного поселка, где должны были заночевать, пошел хлесткий, злой дождь.
Мы с В. вышли из машины и, увязая по щиколотку в густой грязи, перебрались на деревянный тротуар. Здесь подле витрины поселкового фотографа нас ожидал редакционный квартирьер.
Мы полюбовались толстенькими младенцами с голыми ножками, с сосками в пухлых ротиках, с бессмысленными до святости глазенками, задумчивыми красавицами с тургеневскими косами в руку толщиной и местными сердцеедами с такими напряженными лицами, какие бывают лишь у тяжелоатлетов в тот миг, когда, рванув на грудь рекордную штангу, они стоят на помосте славы, еще не веря себе, что вес взят.
Я подумал, что многих из этих парней, наверное, уже нет в живых, потому что по своему возрасту они должны были находиться в армии и, конечно, могли погибнуть в пламени первых боев под Брестом или подо Львовом, что их задумчивые красавицы с тургеневскими косами стали теперь солдатскими и офицерскими вдовами, а пухленькие младенцы — сиротами, и от этой мысли мне стало не по себе.
Квартирьер повел нас под дождем к месту нашего ночлега. Но только мы вошли на широкий грязный двор, посреди которого неприкаянно и мокро чернел предназначенный для нас домишко, как где-то рядом выстрелили. Это был пистолетный выстрел. Квартирьер наш, однако, насторожился, и мы, глядя на него, тоже насторожились.