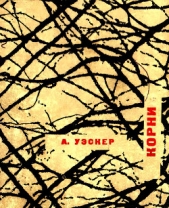Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не Толстого читал, а кого-то другого, может, и Толстого, не помню. Может, о нем кто-то писал или он о ком-то.— Матвей сам ужасался, адкую чушь он порет, но не мог остановить себя.— Так вот Толстой... Нет, Толстому. Нет, все же Толстой... Принес, подарил детям или еще кому-то репродукции какого-то художника. Очень известного художника и очень красивые. Но дело не в этом. А в том, что принялась маленькая девочка рассматривать эти репродукции. Совсем маленькая деревенская девочка. До этого она не видела никаких художников... картин никаких художников. Рассматривает как чудо и приговаривает: ага, это сено, луг, мельница, а это баба моется, это лошадь, это опять баба моется. И тут баба моется. И еще баба моется... Толстой заинтересовался, отчего это вдруг столько баб вздумало мыться. Взял он у девчушки репродукции, смотрит, никто не моется. Просто голые женщины нарисованы. Натура, так сказать. Но девчушке-то непонятно, что это красота в художественном изображении. Она судит по-своему: для чего бабе раздеваться догола? Чтобы помыться. Вот так...
— Не понял юмора,— усмехнулся Шахрай. Сергей Кузьмич тоже непонимающе смотрел на Матвея.
— А нету юмора,— с облегчением развел руками Матвей, чувствуя, что самое главное он уже проскочил.
— Но все же что-то есть, Матвей Антонович, что-то есть. Дыма без огня не бывает. Давайте огонь,— потребовал секретарь.
— Нет еще и огня,— засмеялся Матвей,— так, искорки только. Сколько уже едем, а смотрите, все голая баба моется. От самого города голая баба. Поле и поле. А ведь Полесье, и нигде обнимающего небосклон бора, леса. Ни деревца. Так Полесье ли это? А ведь вы малину любите собирать, Сергей Кузьмич, и жена ваша любит, и сын.
— Дочь,— сказал Сергей Кузьмич.— Но действительно дело не в этом. Двойственность-то ведь, Матвей Антонович, вот что по-настоящему в нашем деле опасно. А вы говорите, огня еще нет. Есть уже и огонь. Надо приходить к чему-то одному. Иначе действительно голая баба получится. Мужик голый.
— Не так это, он не голый,— бросился на выручку Матвею Шахрай.— Наслушался, а так он твердый орешек.
— В том-то и дело. Твердые орешки хоть и с трудом, но раскалываются. Ни скорлупки, ни ядрышка от них.
Они въехали в деревню. У одного из домиков стоял мужик и гесал жерди. Водитель подрулил к нему и остановился, начал расспрашивать о дороге. Сергей Кузьмич подал знак Матвею с Шахраем, что и им пора бы выйти размяться. И они вышли, поздоровались за руку с мужиком. Тот слегка растерялся от такого здравствования. И вообще был он какой-то растерянный и оробевший, щупленький, невысокий, в черной фуфайке, в маленьких резиновых женских сапогах, то принимался вдруг торопливо и неловко махать топором, то вдруг отставлял топор и с каким-то детским ожиданием вглядывался в лица гостей, решая что-то про себя и не отваживаясь на решение. Испытующе смотрел поочередно на Матвея, Шахрая, секретаря обкома, будто прикидывал, что это за люди, кто из них главный и можно ли довериться им. Секретарь обкома попытался разговорить мужика. Но тот отвечал на все его вопросы односложно: зарабатываем, живем, хватает. Дети есть... Корову держим...
— Ну а что, отец, тебя все же мучает? — так и не разговорив мужика, пошел напрямую секретарь.
— А что мяне, добры чалавек, можа мучить. Кажу ж, усяго хватае, еще и остается.
— Ну так про остатки нам и расскажи.
— А что остатки, что про их говорить,— мужик оглянулся на свою хату, на двор, будто ждал оттуда поддержки. Но поддержки не последовало. На хату, на окна ее взглянули и гости, в окне чуть заметно колыхнулась занавеска, мелькнула старческая рука. И все. И гостям не отозвалась хата. И было им уже в тягость стоять перед этим неразговорчивым мужиком и его молчаливой хатой. Но Сергей Кузьмич, видимо, не привык уходить, не добившись своего, и он пошел в атаку с другой стороны:
— Век, отец, гляжу, прожил ты немалый, всего насмотрелся?
— О-о, добрый человек, чего-чего, а этого хватило.
— И воевал?
— И этого добра хватило. И воевал, и партизанил... И награды есть...
— Ну так вот давай как партизан партизану, что у тебя на душе.
— А ты... а вы что, тоже партизанили? —=· дед оторвал глаза от топора, от сапог, посмотрел на секретаря, и в глазах его Матвей увидел гу же самую точку, что видел в глазах Сергея Кузьмича, которая заставила его говорить. Увидел и понял, что общего между секретарем и дедом Демьяном... и этим дедом. Война. Они прошли одними дорогами, и дороги эти навсегда породнили их, соединили такой связью, такой цепью повязали, какой не знают нынешние дни, какой не знает он. Но эта точка появилась в глазах старика и тут же растаяла. И, по всему, стоила она ему немалого напряжения, потому что глаза сразу же закраснелись и чуть-чуть даже заслезились. Заслезился, поплыл и голос его.
— Ты, видать по всему, большой начальник?
— Большой, отец.
— Это хорошо, что выбился в люди. А я вот бураки сажу.
— Тоже неплохо, отец. Хорошие бураки? '
— Еще какие. Мы вот со старой больше двух и не поднимем. Земля, торф родить начали.
— И это ведь неплохо, отец. Раньше здесь тридцать—сорок пудов хлеба с десятины, больше и не знали.
— Какое тридцать—сорок, семена собирали, А теперь все само с земли лезет.
— И ты все недоволен, все тебе мало.
— Мне не мало. Гектар бураков с бабой взяли доглядать колхозных. По осени соберем, сдадим...
— И заработаете неплохо.
— Заробим добра. Кошелек где б взять.
— Вот видишь, чем же ты недоволен?
— А я и жалюсь тебе.
— Что ж это за жалоба такая?
— Вот видишь, отошел ты от нашей жизни, не понимаешь. Самогонку не из чего выгнать.
— Чего?! — растерялся Сергей Кузьмич.
— Из жита, из жита самогонка.
Матвей не выдержал и рассмеялся, секретарь обкома посмотрел на него и тоже засмеялся. А старик неожиданно расплакался. И, сам, наверное, стыдясь своих слез, сел на жерди, рукавом фуфайки вытер глаза. И, хотя тер беспрерывно, никак не мог их высушить.
Слезы катились и катились, некрупные и блеклые, как глаза, в которых они рождались. Старик прятал эти свои глаза, смотрел больше на небо, чем на людей, будто ждал оттуда помощи или ответа. И смотреть на него Матвею было невыносимо горько. Он, казалось ему, чувствовал во рту, на языке горечь этих мутных и блеклых стариковских слез. И он глазами старика на мгновение оглянулся вокруг, посмотрел на землю, на небо, на солнце и на самого себя. Печаль, все чаще и чаще накатывавшая на него, печаль, с которой он уже начал свыкаться, отхлынула, навалился страх, холодящий и обжигающий одновременно, страх перед этой слезинкой старика, плачущего на Полесье посреди лета. В небе и на солнце тоже что-то тонко дрожало, что-то затаённое крылось в притихшей молчаливой земле, до горизонта засеянной пшеницей, до горизонта, за которым едва- едва угадывался отступивший лес. Страх копился в Матвее еще и потому, что он никак не мог взять в толк, из-за чего это так заплакал старик. Добро бы ребенок, женщина, старуха, а то ведь старик, партизан, солдат, хозяин. Секретарь обкома стал поднимать старика, вытащил из кармана платок, принялся вытирать глаза ему.
— Не надо портить вещь. Пройдет... Сами полились, сами и высохнут... Бригадир меня ударил,— сказал старик и замолчал. Молчал и ждал продолжения секретарь.— Мне бураки эти вывезти надо было. Попросил у бригадира коника, как и не слышит. Второй раз — то же самое. С бутылкой к нему за коником надо идти, а где я той бутылки каждый раз напасусь? Пьянчуга ты, ему говорю... А он меня дубцом.
— Когда же это было? — что-то прикидывая про себя, с удивлением обратился к старику Матвей.— Сейчас же лето, а бураки осенью убирают.
— А вот осенью и было...
— И с той поры?..
— С той поры и, наверно, до смерти.
— Садимся, едем,— бросился вдруг к машине Сергей Кузьмич. Шофер хотел вырулить из деревни, повернул уже, но секретарь распорядился ехать в деревню, к правлению.