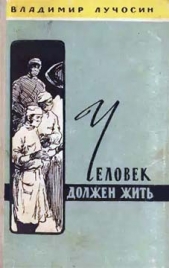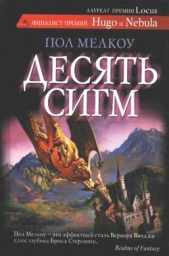Человек в степи
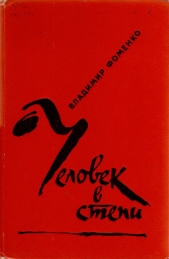
Человек в степи читать книгу онлайн
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.
Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.
Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Шурка, не злись, я любя. Ей-богу, любя. Лопнуть мне, провалиться!.. Мне и твой Сергей нравится. Парень солидный. Я знаю, нужно, чтоб жених был солидный.
— Чтоб такой солидный, как у Зинки с «Красной зари», — поддакивает, щуря светлые глаза, Веретенникова. — Вчера сноха приезжала, обрисовывала.
— А что? — настораживаются все разом.
— Ничего особенного. Приехал парень в «Зарю», только демобилизовался, рекомендуется: «Я шофер высшего класса. Командующих возил»… Зинка задается: «Эх, жениха оторвала!» Гуляет он неделю, и вдруг бежит до него сам председатель: «Товарищ Загоруйко, выручайте! Срочно надо комбайн вернуть в эмтээс, а тракторист заболел. Извините уж, что это по вашей квалификации низко — вожжаться с трактором». Дело при народе и при самой Зинке. Та смотрит на людей с гордостью и говорит своему: «Помоги уж, Сема!» Сема — тык-мык, отказаться нельзя. Стал заправлять трактор, а сам на машине сроду не работал. Наставил лейку и давай керосин лить в радиатор.
Девушки грохнули, оглянулись почему-то на Турлучиху. Та сидит далеко, но, думаю, слышит смех.
— Ну и что ж председатель?
— По заду. Сапогом.
— А Зинаида?
— Вот это и есть любовь! — с горькой завистью вздыхает Веретенникова. — Взяла Зинаида с него клятву, что больше ни за что не будет трепаться. Сейчас вместе работают в бригаде. — Веретенникова подбирает под себя темно-кофейную, накаленную солнцем ногу. — Фуф, до чего ж печет!
— А я б ни за что не простила, — говорит некрасивая Рымарева. — Нельзя уважать трепача.
— Любовь бывает разная, — замечает маленькая, с острыми ключицами Шурка Зегеда.
Она несолидно тоненькая, безгрудая, со взгляда — мальчик-подросток.
— Может, — говорит она, — Зина его перевоспитает. Все у них будет вместе…
Она потупленно молчит, затем опять поднимает голову:
— Вот в «Молодой гвардии» у Вали Борц и Сергея Тюленина любовь… и вместе бороли страх, и вместе на фронт ходили.
— А мы не пошли б? — растопыривает пухлые пальцы Катя Сидоренко. — Не хуже других там были б, и никто нам теперь глаза б не колол, что фронта не видели…
— И здесь фронт, — сразу же, как и подобает комсомольскому секретарю, привычно говорит Рымарева.
— А кто, девочки, знает, что в Доме культуры?
— Постановка.
— Нет, доклад по международному.
— Кто делает? Из района? С шевелюрой, что в субботу приезжал?
Веретенникова обхватывает Рымареву за плечи и что-то быстро шепчет ей на ухо. Та с удовольствием смеется, со смехом вырывается.
Не дождавшись бригадирши, к ним подходит Турлучиха.
— Играетесь? — спрашивает она.
Девушки примолкают. Рымарева осведомляется:
— Может, мы без Ани сделаем, что вам нужно?
— Чего уж! — неопределенно отвечает Турлучиха.
Она садится на пятнистую от редкой тени землю. Выдутая эта земля, иссушенная, побелевшая, кажется посыпанной пеплом. Шквалы суховея выцарапывают из почвы порошины, поднимают их, и они несутся на стебли, не задерживаясь на задеревенелых листьях, пролетают дальше.
— А что после доклада? — тихо спрашивает кто-то.
— Танцы. Две радиолы будут.
— Пойдем?
— Ясно, пойдем.
— А я Любку видела, говорит — в бригаде кино хорошее.
— Много Любка понимает!
— Ты понимаешь…
Притихшая Катя Сидоренко надкусывает помидор, сок брызгает на шею Веретенниковой, обе взвизгивают и, схватившись, начинают бороться.
— Цыцьте! — гаркает вдруг Турлучиха.
Ее крупное коричневое лицо так бледнеет, что становится серым, властные толстые губы вздрагивают…
Веретенникова медленно выпускает Катю, оправляет платье.
— А что?
Старуха пинает ногой грудку земли, и она, спекшаяся грудка, стукает, будто камень.
— Видишь? Вам смешочки?..
— А что нам, помирать?
Подавшись вперед, Турлучиха начинает медленно подниматься.
— Успокойся, успокойся, родненькая, — берет ее за плечо Локтева и, глядя на девушек, говорит тихим, укоряющим голосом: — Молодые вы, а черствые. Еще ведь и комсомолки!..
— При чем здесь комсомол, товарищ Локтева? — официальным тоном произносит Рымарева. — И вы, товарищ Турлова, панику подняли, чего нервничаете?
Она оглядывает женщин, идет обувать брошенные в стороне тапочки, осторожно ступая босыми ногами по комьям.
— «Нервничаете»?.. — спрашивает, дрожа щеками, Турлучиха и, припадая на ногу, передразнивая, показывает, как идет секретарь комсомола. — Вот так все у вас! Слова знаете, а по земле ходите в сапогах, потому вам никогда до печенки и не кольнет. А кольнет — вы из колхоза да в город.
На губах Турлучихи, в углах, видна белесь накипающей пены. Локтева цепляет старуху, но та, распаленная, грузная, надвигается вперед.
— «Нервничаете»? — спрашивает Рымареву. — Ты и живешь — в сапогах. Разве понимаешь жизнь? Когда б понимала, хахоньки б не строила, руководитель… Обувайся, обувайся уж! Смотришь!
Шурка Зегеда, слушающая с открытым ртом, обращается к Турлучихе:
— Тетя, верно, чего вы нервничаете? Кто виновен, что вы погодой расстроились?
Теперь, вблизи, давно подойдя, я четко вижу нежные, мелкие черты Шуры Зегеды: острый носик, маленькую, выдающуюся вперед, тоже острую верхнюю губку.
— С погодой, тетя, бороться можно. Вы на курсы по пшенице ходили, отчего ж по кукурузе не пошли? Вас звали — вы отказывались: «Возраст не тот…» Неправда, тот! Вы, тетя, не перебивайте, разве так разговаривают, чтоб одни вы говорили, а другие молчали!
Турлучиха стоит громоздкая, вся в солнце. Прядь волос, такая же белая, как выжженный кукурузный лист, скользит по ее лбу. Расставив тяжелые ревматические ноги, она сверху вниз разглядывает Шуру Зегеду.
— Не надо говорить, тетя, — проводит та маленькой ладошкой перед лицом Турлучихи, — не надо говорить, что одни вы жизнь поняли. Где поняли, если ваша кукуруза сохнет, а наша целая? Мы всем объясняли, как с ней работаем. Все приходили, кроме ваших женщин.
— Зато они сейчас лаются, а кукурузу не опыляют… — встает Веретенникова.
Рымарева пинает ее в бок: дескать, брось!
— Нечего бросать, Маруся, не толкай, — шумит Веретенникова. — Подумаешь, она босиком ходит — значит, землю знает. Агроному, получается, надо и кожу на ступнях, на пятках срезать, чтоб еще лучше знал.
— И не обижайтесь, тетя, — дополняет Зегеда, — вы ж сами завелись. А за что? Мы не на работе гуляли, мы в перерыве… Вы тоже были молодые. — Она поворачивается к Локтевой — И комсомол действительно ни при чем.
Запыленное, помятое лицо Локтевой беззлобно. Она поднимает на Шурку окруженные морщинами, выцветшие, должно быть, когда-то синие глаза:
— Поживи с наше, дочка.
Она оглядывает ряды кустов и, вытирая косынкой засохшие на ветру губы, жалуется Шурке:
— Ваша кукурузка ничего. У нас хужее…
— Тетя, так надо ж принимать меры!
Порыв ветра схватывает с земли порошины, осыпает глаза.
— Меры… Во несет! Что ли загородишь?..
— При чем тут «загородишь»! — вмешивается, топыря пальцы, Катя Сидоренко. — Гляньте, что будем делать!
Мне тоже интересно — что они будут делать. Они отбрасывают на сторону накиданные горой платки и жакеты, под которыми оказываются кастрюли, толсто обмотанные влажным тряпьем, укрытые бурьянинами и соломой. Катя раскрывает свою кастрюлю. Внутри, поверх мелкого сероватого порошка лежит толщиной в палец пухлая кисть, видать, из косы самой Кати.
— Вот! — цокает языком Катя. — А вы говорите: не загородишь!..
Она шагает к кусту кукурузы и, обмакнув в порошок кисть, отряхивает ее над пучком нитей, пробившихся из будущего початка.
— Вот вам и опыление. Пожалуйста!
Она присыпает с кисти два других пучка, переступает к следующему кусту. Локтева трогается за ней, а Турлучиха, покосясь в мою сторону, задерживается на месте…
Все девушки, так же как Сидоренко, переходят от куста к кусту — опыляют. Только Нина Веретенникова делает другое. Быстрая, тонкая, действительно — веретено, она выбирает на вершинах кустов торчащие вверх метелки, проворно пригибает их и, поднимаясь на носках, стряхивает в армейский котелок пыльцу с высоких метелок.