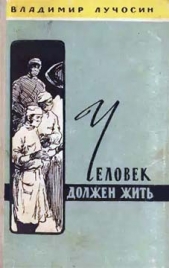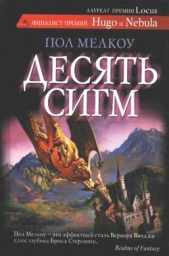Человек в степи
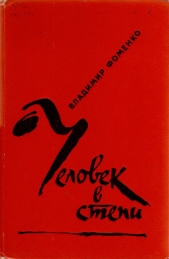
Человек в степи читать книгу онлайн
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.
Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.
Колхозники, о которых пишет В. Фоменко, отмечены высоким даром внутреннего горения. Оно и заставляет их трудиться с полной отдачей своих способностей, во имя общего блага.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут я усомнился: «Может, правильно, не до садов в такой напряженный момент». Но сам мовчки продолжаю работать по всем правилам: весь садок планую по чертежу, в геометрическом шахматном порядке. Правда, недоставало научных книг. Было две новые и одна та, что батька-садовник купил в свои молодые годы и после передал мне по наследству вместе с бычком и сапогами…
— Евдоким Иваныч, и сейчас эта книга у вас?
— А ось, в шалаше, пожалуйста…
Он, согнувшись, полез в шалаш, и через минуту книга, размером с библию, вынутая из кипы других, была у меня в руках. Желтый переплет был из настоящей толстенной кожи, бумага пахла прелью, заглавный и титульный листы отсутствовали, но на ряде страниц отмечался 1805 год напечатания.
Я начал читать оглавление: «Горох Пиринейской и Венецианской и способ разводить сии горохи… Роспись домашним нашим деревьям, служащим по украшению садов…»
Дед Гузий стоял сбоку и, пощипывая бородку коричневыми пальцами, задумчиво говорил:
— За что люблю то старую книгу — что дает понятие о нашей жизни.
— Чем же?
— А ось, откройте страницу четыреста двадцать восьмую, — не глядя, называет Гузий, — прочитайте главу: «Средство на одном кусте производить кусты разного рода». Или четыреста тридцатую: «Устройство цветника, в воде плавающего»… Цэ описание садов санкт-петербургского вельможи. Описывается, какие на его аллеях красовались розы с синими лепестками, деревья «крушины италийские», клумбы, что плавают на серебряных цепках среди ставочков. Может, человек двадцать и бачило той райский сад… Цэ была жизнь, сробленная с людского пота и крови. В революцию ее сметали как ненужную — цэ наступила другая жизнь. Нонешние годы дуже тяжелые — послевоенные годы, часто и хлиба не хватает, но считаю — теперь пойдет к тому, что во всех колхозах появятся такие цветники. По-другому невозможно! Для чего ж столько перенесли люди? Цэ будет наша четвертая жизнь!..
Гузий, разгибая спину, глядит в степь. Степь, широкая, разогретая, с трех сторон окружает сад. Далеко за садом виднеется хутор. Собственно, видны только крыши меж ветвями.
— Бачите хуторок? А был голый, як груда каменюк… Дак что я вам излагал? Ага… Значит, хоть и сдвинулись громодяне в отношении посадок, а смотрели на меня, як на вовка, потому что по виноградным буграм стало нельзя пасти коз, и вошло у всех в привычку лаять меня погаными словами. А я креплюсь и мовчки работаю… Но только стали мы снимать с лоз по триста центнеров винограду и стал он вместе с другой фруктой поступать и в ясли, и на трудодни — прекратили обо мне говорить «проклятый дед Гузий», а стали «дедушка Гузий» или «Евдоким Иванович».
Дети на улице здороваются и несколько раз всем классом приходили с учителькой обирать гусениц, и я им читал лекцию о жизни яблони и о прививке к дичку культурного глазка… Бачу, приспело время заводить великий общественный сад, то есть вот цэй самый сад. Думаю себе: «Стоило тебе, садовник, для такой минуты переругаться со всем народом…» В одну только осень высадили мы тут яблонь, груш, белослив три тыщи шестьсот восемьдесят пять!
Сажаем, а я на людях боюсь рта открыть: заговоришь — голос дрогнэт, а они подумают, что дид Гузий от своей победы ума рехнулся… Кончили мы те посадки весной сорок первого года, а летом началась война.
В ноябре взяли немцы Ростов, колхоз стал эвакуироваться, и молодые дерева остались, як сироты, без дерюжек и суровой зимой подмерзли… Через год фашистская культура добавила: по всем деревьям, прямо по саду, шо, можно сказать, вырос из нашего сердца, прошли танки, набрали фашисты винограду и обратно тем же ходом, гусеницами по молодым посадкам… Вам книга уже ненужная? Дайте покладу…
Гузий понес книги в шалаш.
— Под Мечеткой, вот в той стороне, — выйдя из шалаша, показал он рукой, — нагнала Красная Армия зимой сорок третьего года немецкую технику, с танковыми башнями, с железяками помешала самих гитлеров. И, верите, уже без слез, уже не як на пепелище приходили люди в почернелый, проеханный танками садочек. Хватает сил у земли: погнала она весной от корня побеги, и взялись мы возобновлять цэй сад сызнова. Стали срезать сухие, сломанные стволы, слабую поросль и оставлять для жизни по одному, самому сильному побегу, чтобы выросло из него дерево!.. Так что цэй сад, что бачите, начал жить второй жизнью.
Я смотрю — деревца тянутся молодыми, еще слабыми рядками и лишь кой-где начинают рожать.
— Цэ «кронсель прозрачный», — указывает Евдоким Иванович на единственный плод, украшающий сломанное танком и вновь пошедшее от побега деревцо.
Прозрачное яблоко, крепкое, чуть розоватое, округло сияет, накаленное и пронизанное солнцем, дугою гнет молодую ветку… «Кронсель прозрачный»…
Ветер едва тянет, и я ощущаю у каждого дерева устоявшийся в зное, присущий ему аромат.
— А вот цэ «бельфлер-китайка».
Евдоким Иванович осторожно, чтобы не упали другие два, сорвал желто-восковое, с багрецом на боку яблоко и протянул мне. Яблоко туго скрипнуло в его ладони.
— Покуштуйте!..
Он идет по вспаханной меж деревьями, обветренной сверху земле. Комья ссовываются, оседают под ногами. На тонких яблоневых стволиках засохли оборванные плугом нитки повилики, и кажется, глазу видно, как стволики тянут соки из пушистой, глубоко взрытой для них земли…
Мы присели возле пня на полынный островок, не тронутый лемехом, и Гузий притих, зажмурил на солнце глаза. Глядя на его свешенные с колен, сучковатые деревянные руки, я думал: сколько тысяч корней посадили они в землю, сколько проделали тончайших операций, когда от движения ножа под спящим глазком побега зависит плодоношение дичка — будущего культурного дерева. Сколько эти пальцы с толстыми заусеничными ногтями сделали мастерских окулировок, прививок в трехгранный вырез, в расщеп, в приклад, прививок на корнях, мостиком и за кору и сколько эти пальцы еще сделают!
Шмель влетел под рукав белой сорочки Евдокима Ивановича, вылетел, сел на упругий стебель, вдвое перегнул его своей тяжестью…
— Мой дид, — сказал Гузий, — был садовником. И батько садовником. А мои сыновья — офицеры, дочки уже тридцать лет як повышли замуж. Значит, я свое мастерство детям не передал… Не схотели Гузии быть садовниками. Пошли из Гузиев военные хирурги, техники да командиры…
Он поднял с пыли тяжелые свои ножницы, цепкие, бело отточенные, будто ножницы жестянщика, и принялся с металлическим стреляющим треском обчекрыживать волчки под очередной яблоней. Ствол деревца был сильный, заметно раздавшийся в стороны, отчего кора на нем растрескалась, завернулась розовой чешуей.
— У цэго деревца начали было жовкнуть листки… А дал корням подкормку — и пошло, растет, аж кожи ему мало!..
Ветром донесло говор, приближалась уходившая на обед бригада. Люди были совсем близко, когда одна девчонка плечом толкнула другую, увернулась от мальчишьи резкого ответного удара, и обе, ловкие, как пацаны, хохоча, устремились напрямую через птичник, через сбитую ногами питьевую бадью, высоко плеснувшую в воздух густыми брызгами. Белые длинноногие курчата разлетались в стороны с дурным криком, взметывая с земли перья, пух, солому.
Евдоким Иванович бросил обрезать волчки, громко заорал:
— Ось я вам покажу, як птицу гонять!
Девчата перескочили садовую канаву, пошли к сложенным у шалаша лопатам.
— Идите сюды! — приказал Гузий.
Уткнувшись, они подошли. Обе были мокрыми. На опаленных ветром физиономиях, будто на яблоневой растресканной коре, шелушились чешуйки. Одна девчонка трубно прыснула, за ней прыснула другая.
— А ну, марш до инструменту!
Те подхватили лопаты и, хохоча уже в голос, побежали от шалаша.
— Ось дурны!..
Он стоял с тяжелыми ножницами в руке, глядел вслед девчонкам.
— Молодысть моей бригады!.. — продекламировал он. — Руки у них не такие, як мои грабли, а нежные. Смотришь, як роблют окулировку, думаешь: «Самому дереву хорошо». Хай на счастье наследуют мое ремесло садовника. Может, будут трудиться в будущих садах, шо лучше садов петербургского вельможи, и вспомнят дида Гузия, як будут прививать черенки до молодых яблонь.