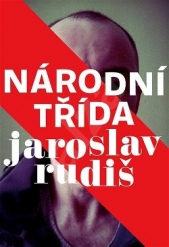Люди на болоте. Дыхание грозы
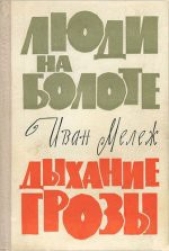
Люди на болоте. Дыхание грозы читать книгу онлайн
Иван Мележ - талантливый белорусский писатель Его книги, в частности роман «Минское направление», неоднократно издавались на русском языке. Писатель ярко отобразил в них подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны и трудовые послевоенные будни.Романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» посвящены людям белорусской деревни 20-30-х годов. Это было время подготовки «великого перелома» - решительного перехода трудового крестьянства к строительству новых, социалистических форм жизни Повествуя о судьбах жителей глухой полесской деревни Курени, писатель с большой реалистической силой рисует картины крестьянского труда, острую социальную борьбу того времени.Иван Мележ - художник слова, превосходно знающий жизнь и быт своего народа. Психологически тонко, поэтично, взволнованно, словно заново переживая и осмысливая недавнее прошлое, автор сумел на фоне больших исторических событий передать сложность человеческих отношений, напряженность духовной жизни героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
становилась то синим небом, то белым облаком: легкая, словно пушинка с
тополя, плыла в высоченной выси, не видя, не зная земли; то будто
становилась колосом, что сморенно шелестел над сухой землею; то - травою,
что поила росным холодком лесные сумерки, сладкой истомой - солнечные
поляны. Правда, в такие минуты иногда появлялась какая-то непонятная,
горькая боль, ноющая, щемящая. Но она не могла пересилить зачарованности,
только обостряла чувства Хадоськи, делала ее еще более чуткой.
С поля, из лесу Хадоська возвращалась часто с цветами.
Они в хате пахли полем, лесом, полнили хату прохладой опушек и дыханием
вольного простора. Но в их запахе вскоре чувствовала Хадоська грусть
увядания; хотя смотрела за ними, меняла воду - цветы гибли. Ей было жаль
их: были они для нее - как живые, со своей радостью и свободой; поэтому,
как ни любила она цветы, рвала их в поле или на опушках редко.
Довольствовалась своими, домашними, которых было полно в глиняных
горшочках на окнах и в палисаднике перед хатой. Летом палисадник
буйствовал всем многоцветием красок; когда возвращалась домой, цветы как
бы привечали - резеда, мята, георгины, мальвы. Они были ей как подруги,
милые, надежные.
С того летнего дня, когда Хадоська заново услышала трель жаворонка, мир
для нее переменился. В мире было хорошее, было чем любоваться, чему
радоваться. Хадоська не чувствовала уже себя такой одинокой. Но в большой
перемене, что произошла вокруг, меньше всего изменилось ее отношение к
людям. Можно сказать, теперь для Хадоськи они - не считая отца, матери,
братьев, сестер - были меньше, чем когда-нибудь, видны и слышны. Найдя
себе в жизни отраду, Хадоська не думала с таким страхом, что о ней
говорят, как на нее смотрят. Она уже как бы меньше зависела от них.
Прошли лето, осень, зима, наступило другое лето, а Хадоську не потянуло
к людям. Как и раньше, не чувствовала Хадоська себя среди людей так
хорошо, как среди деревьев или хлебов. Как и раньше, на людях она
неизменно молчала, старалась уединиться, уходила, будто вырывалась из
неволи.
И, встречаясь в поле, на дороге, поздоровавшись, Хадоська спешила
поскорее разминуться, словно боялась, чтобы не остановили. Не убегала она
теперь, заметили, может, только от Хони, хотя и к нему тянулась не очень.
Можно сказать, среди людей бывала Хадоська только в церкви, где слушала и
молилась, как немногие, усердно, или по дороге к церкви.
Еще заметили в Куренях, что, при всей отчужденности к людям, Хадоська,
на удивление, тянулась к детям. Охотно играла она с соседскими, что вечно
льнули к ней, а о своих малых братьях и сестрах заботилась, как мать. И
кормила, и поила, и мыла - не один день, для приличия, а все время - и с
какой охотой! Игнатиха, Хадоськина мать, нахвалиться ею не могла.
А еще злые языки говорили, что за все эти годы не было такого случая,
чтобы Хадоська подошла к какой-нибудь молодице, у которой грудное дитя на
руках. Говорили, видеть не могла, мрачнела, убегала сразу. Всякое
говорили, когда заходила речь о Хадоське, и было в тех разговорах иной раз
и такое, что у нее не все дома, что она немного, не иначе, тронутая. И
неизвестно еще, чем оно все кончится!
5
Хадоська ночью много думала о Ганне, о ее горе. Ни в мыслях, ни в
сердце не было согласия. То как бы успокаивалась: не ее беда - чужая; то
упивалась злой радостью: есть на свете правда, пришла кара; то вдруг, в
минуты раскаяния, сочувствовала: беда такая! Жалость обезволивала, когда
думала, что Ганна где-то убивается над желтым холмиком могилы. Уже,
казалось, готова была с давней, как бы живой еще, дружбой простить все, но
почти каждый раз стремление это затемняла Евхимова тень, и в жалость ее
вливалась горькая струя, вносила в чувства противоречивость, ожесточение.
Ожесточение крепло, когда вспоминала свою беду, своего ребенка, которого
будто снова теряла...
В таком противоречивом состоянии и увидела Хадоська Ганну, которую
везли назад Чернушка и мачеха той же дорогой вдоль болота. Хадоська была
близко от дороги и хорошо видела Ганну: та сидела на телеге, по-старчески
горбясь, обхватив руками колени. Руки были сцеплены так, что казалось - не
разнимет никто. Навеки. И сама сидела так, будто Не распрямится никогда.
Еще заметила Хадоська: глаза были потухшие! Как слепые! В то мгновение
Хадоська не думала ни о чем, только смотрела, чуткая и растерянная. Она
словно заново видела Ганну. Чернушка вдруг с воза поклонился ей, лицо его
болезненно скривилось, он провел рукавом по глазам, отвернулся. И его
поклон и слезы еще больше смутили Хадоську.
Смущение и чувство вины не оставляли ее весь день. Гребла ли сено,
сносила ли его в копны, чувствовала себя виноватой перед Ганной, перед
всем светом, особенно же - перед богом, который, знала, видел все, что она
думала! Правда, жила она и теперь не только чувством вины: время от
времени находила на нее, путала все прежняя беспорядочность чувств и
мыслей...
Вечером, едва стемнело, к возу, где она ужинала с отцом, приплелся
Миканор. Приходил он не в первый раз - наделы были близко, - но Хадоська
взглядывала нашего редко и строго. Часто чувствовала на себе его тяжелый
взгляд, сжималась и настораживалась; хмуря брови, ждала, что будет дальше.
Дальше не было ничего. Миканор будто скрывал чтото. Вставал, тащился к
своему табору. Вот и в этот вечер курил, говорил с отцом о погоде, о сене,
мирно, терпеливо спорил о колхозах: колхозы, увидите, докажут свое!
Спорил, а Хадоська часто чувствовала в потемках: снова смотрит на нее!
Спор не кончили и в этот вечер: отец, готовый вскипеть, спохватился, что
кони не поены, исчез в темноте. Хадоська насторожилась.
- Чего ето ты Хоню мучишь? - промолвил Миканвр не сразу и не легко.
Будто заступился: - Ходит столько! И такой хлопец!.. А ты - мучишь!..
- Пусть не мучится! Я не прошу!..
- Дак любовь же не оттого... просят или не просят...
Она - как зараза какая... - За всем этим Хадоська ощущала что-то
тяжелое, затаенное, как и в его взглядах. Или ты не любишь его".. - Она
промолчала, начала копаться в возу, будто готовила постели. Он стал
рядом-, взял ее за руку. - Или, может, я тебе нравлюсь?
Он пытался шутить, но Хадоська чувствовала, что это не шуткиг и ей было
неприятно. И еще чувствовала она, какой он слабый, бессильный перед нею,
Миканор, которого так не любил и побаивался ее отец. Он, правда, не
выпустил руку, когда она хотела отнять, нарочно, из мужского самолюбия,
сжал крепче. Обнял крепко. И все же Хадоська чувствовала себя более
сильной, высокомерно шевельнула плечами, и он нехотя отпустил. Отошел,
закурил папиросу.
- Не нравлюсь, значит?
Она не ответила. В это время послышалось беззаботное посвистывание,
кто-то шел к ним; еще издали узнали- Хоня.
Хоня, приблизясь, перестал посвистывать, поздоровался тихо, сдержанно.
Только когда Миканор ответил, захохотал- А я думал - батько!..
Он шутил, хохотал и замечать не хотел, что Миканор сегодня особенно
молчалив. И то, что Миканор скоро простился, подался в темноту, тоже понял
по-своему. Стал дурачиться, хватать ее за руки, обнимать, как хватал и
обнимал каждый раз, когда удавалось остаться вдвоем и в темноте Она
отнимала руки, вырывалась, а он - будто так и надо было - хватал снова,
тянул к себе, смеялся.
- Дак когда же будем жениться? - спросил, может, уже в двадцатый раз.
Она промолчала, но он хоть бы чуть обиделся или помрачнел; веселый,
беззаботный, не впервые погрозил: - Немолодая ж уже! Состаришься!.. Не