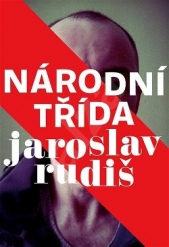Люди на болоте. Дыхание грозы
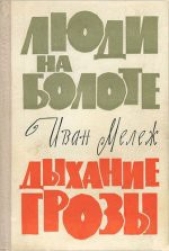
Люди на болоте. Дыхание грозы читать книгу онлайн
Иван Мележ - талантливый белорусский писатель Его книги, в частности роман «Минское направление», неоднократно издавались на русском языке. Писатель ярко отобразил в них подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны и трудовые послевоенные будни.Романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» посвящены людям белорусской деревни 20-30-х годов. Это было время подготовки «великого перелома» - решительного перехода трудового крестьянства к строительству новых, социалистических форм жизни Повествуя о судьбах жителей глухой полесской деревни Курени, писатель с большой реалистической силой рисует картины крестьянского труда, острую социальную борьбу того времени.Иван Мележ - художник слова, превосходно знающий жизнь и быт своего народа. Психологически тонко, поэтично, взволнованно, словно заново переживая и осмысливая недавнее прошлое, автор сумел на фоне больших исторических событий передать сложность человеческих отношений, напряженность духовной жизни героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ними была!..
Вот и она узнала горе! Вот и у нее... Тут Хадоськины мысли словно бы
столкнулись с другой, большой, огромной мыслью- вошла, ворвалась вдруг, не
впервые, мысль о своем ребенке! Ее, Хадоськином ребенке! Е е, которого она
никогда не видела и не увидит! Ее, которому пошел бы третий годок, который
мог бы обнимать за шею, льнуть к груди, звать! Ее, которого сама лишила
жизни! Ее, которого - опалило непоправимое, безутешное, - которого сама,
сама загубила.
2
Пережитое шло всегда рядом. Оно чувствовалось то сильнее, то слабее, но
не исчезало. На всем, чем жила теперь, была его тень. Оно приходило ночью,
являлось днем, было в мыслях, в настроении, в поступках...
393
В тот день, когда побледневшую, измученную Хадоську отец повез в
больницу, беда ее не осталась в Куренях. В чистой боковушке юровичской
больницы Хадоське не стало легче, чем тогда, когда шла к черной прорве
страшного глинищанского "ока", когда стучала в дверь Захарихи-знахарки,
когда потом брела домой. Стыд, отчаяние жгли, мучили Хадоську в тихой
больничной боковушке еще хуже, чем в тот холодный, беспощадный день, в ту
ужасную ночь. В первый же день в больнице, будто нарочно, взялись пытать
ее тем, что так хотелось забыть: только внесли Хадоську на носилках в
приемный покой, врач стала выспрашивать, о чем и думать было страшно. И
была врач не одна, кроме нее еще двое в белом стояли рядом, хотели знать,
видеть Хадоськин позор. Не успела Хадоська разомкнуть губы, как вошел
какой-то мужчина в белом, полный, с румяным лицом, чтобы, казалось, тоже
слушать, смотреть; Хадоська, казавшаяся почти без сознания, будто ожила,
замотала головой, дико закричала: "Нет, нет!" Она кричала, рвалась с
носилок и тогда, когда мужчина ушел, и когда врач что-то говорила,
успокаивала, - кричала, пока совсем не обессилела в крепких руках женщин в
белом, потеряла сознание. Постылым, ненавистным было с того дня Хадоське
все - и врачи в белом, и разговорчивые, назойливые женщины-соседки, и
недалекий ельничек за окном: ей казалось, что все знают о ней; казалось,
что и смотрят по-особому, с тайными нехорошими мыслями, как бы насмехаясь
над ее бедой, над ее позором. Особенно ненавидела она того здорового,
нахального мужчину в белом, о котором говорили - главный врач, и который
чуть не каждый день обходил всех, посмеиваясь, расспрашивал, осматривал.
Сначала он хотел подойти и к Хадоське, но Хадоська, едва заметила его
противную усмешечку на сытом, румяном лице, затряслась, как помешанная,
закрыла глаза руками, закричала. С того дня мужчина не подходил больше к
ней, и когда бывал около соседок-женщин, то держался скромно, деликатно.
Не радовали в те дни Хадоську родители, что часто, очень уж часто
приезжали с домашними гостинцами. Хотя ни отец, ни мать словом не
проговорились, чувствовала Хадоська, что они знают, какая беда у нее,
горела от стыда, от вины, от обиды. Молчала отчужденно, минуты дождаться
не могла, когда они уедут от нее. После встреч с родителями Хадоську
особенно донимала мысль о том, что, может быть, уже многие знают в Куренях
про ее грех, знают, может, все парни, девушки; знают, смеются. Она иногда
так ясно представляла, как говорят, как смеются над ней, что казалось,
слышала голоса, видела всех воочию.
Хадоська холодела от отчаяния.
Долго-долго, сожалея, вспоминала Хадоська бездну озера у Глинищ: почему
тогда убоялась, не бросилась, не кончила все сразу; не один день, не одну
ночь строила планы, как загубить себя. За окном гудели ветры,
свирепствовали лютые стужи, выберись ночью в буранное поле или в лес - и
все кончится враз. Можно сесть, скорчиться, заснуть; сны, говорят, будут
сниться только. Не страшно и не больно, и сразу станет легко. Конец всем
мучениям сразу... В полночь незаметно выскользнула в коридор. Санитарка
спала на составленных табуретках; осторожно, на цыпочках, обошла ее. Двери
были заперты, но в замке торчал ключ; торопливо повернула его и, ничего
уже не соображая, ринулась в сени, за ними - в ветреную темень, в стужу.
Санитарка потом говорила: скрипнули двери, сильно потянуло холодом;
Хадоську догнали за оградой, в хвойнике, в снегу, можно сказать - в одной
сорочке.
На другой день приехала мать, сразу же прослышала о Хадоськиной ночи; и
удивительно ли, вся больница говорила об этом. Чуткое сердце матери сразу
поняло, что задумала дочка; смотрела на Хадоську глазами, полными боли и
слез, крестилась, ужасалась, умоляла: "Рыбочко, Хадосечко!.. Что же ето
ты, головочко, удумала!.. Батьку, матку не жалеючи, братиков, сестричек!..
Разве ж мы не берегли тебя, как око свое! Не любили, не жалели разве?! Как
же ты удумала такое!.." Хадоська слушала, но словно не понимала ничего; не
было у нее ни сожаления о своем поступке, ни жалости к матери; чувствовала
только, как что-то сжимает, гнетет ее, знобит так, что вот-вот не
выдержит, затрясется, будто в лихорадке. Она закрыла глаза, притворилась,
что спит.
В неодолимой лихорадке она не видела, как прошел день, как наступил
вечер, зажгли свет. Вечером озноб вдруг исчез, тело запылало, ей стало так
душно, что она задыхалась. Сквозь горячий туман видела она врача, которого
подняли среди ночи; отрешенно, будто из далекой дали, чувствовала, как он
трогал ее лоб, ставил градусник. Долгую, бесконечную вечность, где не было
ни дней, ни ночей, не было ничего понятного, металась она в нестерпимом
огне, в каких-то путаных, жутких видениях, стонала, бредила, кричала
что-то; врачи говорили потом, что была уже почти на том свете.
Пришла она в себя веселым, солнечным утром - на морозном стекле сияли
радостные искорки-звеады. Очнулась с ощущением удивительной легкости,
безоблачности, - лежала, казалось самой, легкая как пушинка: повей ветер -
и полетит! Почти сразу же незаметно овладел ею сон, такой же легкий, как и
явь. В следующие дни ощущение легкости не проходило: ни о чем не думала,
ничто не волновало. Мир будто стал иным: и морозное солнце сквозь стекла,
и белая боковушка, и врачи, даже тот, главный, с красным лицом.
По-иному встретила она и счастливых отца с матерью: почувствовала
что-то близкое, праздничное, милое. Отец больше молчал, только глаз
довольных не сводил с нее, а мать говорила, говорила, захлебывалась от
радости: "Не пускали нас! Нельзя, мол, к ней! Дохтор, мол, не велел,
который главный. А один раз я упросила самого, который главный. Слезами
умолила, чтоб пустили. Пришла. А ты и спишь и не спишь, губками все
шевелишь, как бы пить хочешь. Губки, видно, горячие, сухие. И так голову
повернешь, и так - будто лежать нехорошо, неловко. И как посмотрела я,
горько мне стало, аж смотреть не могу. Слезы так и текут. "Хадосько!" -
говорю тихо, слезами исхожу. А ты как услышала или что, веки задрожали,
раскрыла немного глаза. Смотришь куда-то вверх, а глаза невидящие,
измученные. "Донечко, рыбочко моя!" - говорю. А ты - как не слышишь. Будто
не узнаешь, будто я чужая! Глазами не поведешь - не видят, как неживые!
"Мамко ж я твоя! - говорю. - Мамко твоя, чуешь?!" А ты - хоть бы как
отозвалась! Посмотрела немного и совсем закрыла глаза! Губками зашевелила,
будто во рту пересохло, будто пить хочется тебе! А потом вдруг как
застонешь, как забормочешь - быстро-быстро! Не разобрать - о чем!.." Мать
снова залилась слезами, слова не могла больше вымолвить; показалась
Хадоське какой-то слабой, несчастной, даже стало жалко. Отец не выдержал,
попрекнул: "Вот завела! Как хоронишь, вроде!.. Дочка поправилась, а