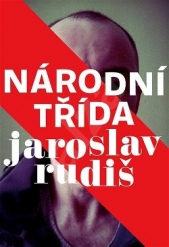Люди на болоте. Дыхание грозы
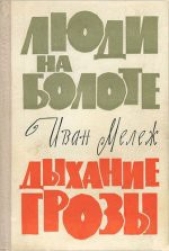
Люди на болоте. Дыхание грозы читать книгу онлайн
Иван Мележ - талантливый белорусский писатель Его книги, в частности роман «Минское направление», неоднократно издавались на русском языке. Писатель ярко отобразил в них подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны и трудовые послевоенные будни.Романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» посвящены людям белорусской деревни 20-30-х годов. Это было время подготовки «великого перелома» - решительного перехода трудового крестьянства к строительству новых, социалистических форм жизни Повествуя о судьбах жителей глухой полесской деревни Курени, писатель с большой реалистической силой рисует картины крестьянского труда, острую социальную борьбу того времени.Иван Мележ - художник слова, превосходно знающий жизнь и быт своего народа. Психологически тонко, поэтично, взволнованно, словно заново переживая и осмысливая недавнее прошлое, автор сумел на фоне больших исторических событий передать сложность человеческих отношений, напряженность духовной жизни героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
глаза, в которых то грусть, то блеск насмешки, то затаенная боль, - что
они одни могли делать со Степаном!
Странный отец, не мог понять, чем она взяла Евхима!
Да она кого хочешь завлечь, заворожить может! Скажи она одно слово
Степану - и он, кажется, пойдет за нее в огонь и в воду!
Может, не было бы этого желания, этой нежности к Ганне, если б ей было
хорошо, если б видел, что душа ее полна своим счастьем. Если б не заметил,
что и Евхим, молчаливый, хмурый, затаившийся в горьком и злом
недовольстве, редкоредко глянет на нее радостным, ласкающим взглядом!
Чувствовал, не раз убеждался Степан: не любит она Евхима, так только,
терпит. И у Евхима - какая любовь, если в той любви не столько доброты,
сколько ревности и настороженности.
Не однажды хотелось Степану дотронуться до ее руки, погладить
успокаивающе, сказать ласковое, доброе слово!
Однако при этом мутило, бередило душу тяжкое чувство вины: нехорошей,
грешной чувствовал эту непреодолимую нежность к братовой жене. Укорял,
ругал себя: знал, что грех, измена - нежность к Ганне, а ничего не мог
поделать, не мог с этой бедой справиться. Не покидало, точило душу
сознание: а почему грех, если она не любит Евхима?
Не любит Евхима. И все ей здесь не любо. Вырвалась бы с радостью, пошла
б куда глаза глядят. И он, Степан, мог бы пойти с нею, куда пожелала бы,
лишь бы воля, лишь бы простор. Лишь бы - вместе... Пускай только слово
скажет!..
Но она не говорит этого слова, будто и не замечает ничего.
Думает, может, что он просто для брата старается...
Теперь ей так тяжко. Все, чем жила, утратила... Ей так нужна теперь
опора, опора и - свобода. Там, в другом месте, ничто не напоминало бы ей о
беде... А что, если пойти и сказать ей, чтоб не горевала так, успокоить
хоть немного?
А то она одна со своей бедой, мучается одна. Хоть отвлечь её от тяжелых
мыслей... Пойти посидеть вдвоем - поддержать.
А он поддержать может - не маленький уже. Если б пришлось, так и
самостоятельно жить мог бы, - сможет, если придется, своим хлебом
прокормиться. Работать не привыкать, знает, как с землей обходиться, а где
надо, то и грамотой подработать может. Проживет, если что!.. И другим
неплохо с ним было бы, - припеваючи могли б жить, не то что с отцом и
Евхимом! Он-то не мордовал бы работой и не смотрел бы по-волчьи...
А что, если отважиться и высказать все? Выложить все начистоту, - зачем
ей и ему терпеть неизвестно ради чего!
Скрытничать, тянуть жилы изо дня в день, задыхаться, не видя
просвета!.. Если многие живут иначе, по-человечески, если и им жить
по-человечески не заказано!.. Только отважиться - и начнется новое,
вольное, желанное... Отец и Евхим приедут, а их и след простыл - ищи ветра
в поле!..
Степан даже поднялся с постели, заходил по хате, вышел на крыльцо -
сердце сильно билось. Пойти сказать все!..
Шагнул на ее крыльцо. К ее дверям. Но тут вдруг овладела им
непреодолимая слабость и робость. Он стал, прислушался- может, плачет,
тогда он войдет, станет утешать - и скажет все.
Так было бы лучше. Но плача не было слышно. Он отошел от дверей.
Несколько раз подходил к дверям, намеревался войти и - останавливался
несмело. Не хватало отваги. Ругал себя: трус, слизняк; упрекал: так
никогда ничего не добьешься, - однако совладать с противной слабостью не
мог. Странное творилось с ним: и войти сил не было, и вернуться,
оторваться от дверей - тоже. Будто цепью прикован. Подходил, отходил,
упрекал себя, издевался даже над собою. Потом стал злиться на свою
нерешительность, стал будто смелее... Теперь или никогда! - не рассуждая
больше, не колеблясь, открыл двери.
В темноте Степан остановился, осмотрелся - где она? Не увидел, скорее
догадался: на кровати лежит, - но не подошел к ней. Подождал, думал, что
спросит, отзовется как-нибудь. Она не отозвалась. Тогда несмело, тихо стал
приближаться к постели, - неужели спит?
Как оглушало сердце, когда остановился, наклонился над нею -
прислушался, присмотрелся вблизи. Даже будто жаром обдало от этой
близости. Она не спала, смотрела, но - это очень смущало - хоть бы
шевельнулась. Как неживая!
- Теб-бе... может... плохо? .. - выдавил Степан.
Ганна не ответила. Замешательство его не только не уменьшилось, а еще
усилилось, он стоял, сдвинуться не мог.
Только слышал, как стучит его сердце и шумит в голове. Теперь слабости
уже не было, он готов был на любую отвагу, но - вот же беда: для чего эта
отвага, что делать? Он как бы вдруг перестал соображать.
- Может, что... надо? .. Дак я...
Она, вместо того чтобы посоветовать, отвернулась молча, легла лицом
вниз. Степан постоял, надо было что-то делать, - дотронулся до нее,
осторожно положил руку на плечо. Ладонь его ожгло, всего обдало жаром, он
даже почувствовал слабость. Тянуло прижаться к Ганне, обнять. Еле
проглотил горячий ком, что застрял в горле:
- Ганна...
Как он жалел, как любил ее в это мгновение, какое необыкновенное
чувство, радость, какая надежда томили его, горели в нем, ждали,
стремились! Он жил только ими, только ею! Если бы она приказала ему в ту
минуту умереть, он умер бы, может быть, счастливый! Он готов был для нее
на все!
Она сказала то, чего не ожидал. Тихо, чуть слышно, но так отчужденно,
недоступно, что его будто ударили:
- Отойди.
Рука его сама отскочила от Ганниного плеча. В одно мгновение желанное,
близкое стало далеким, недосягаемым.
Чувствуя, как внутри все похолодело, не понимая ничего, Степан поплелся
к дверям.
7
Всю ночь Ганна пролежала будто неживая. Не было мыслей, не было,
казалось, никаких чувств. Всплывали только медленно, неслышно, как
неживые, картины-воспоминания, всплывали одна за другой, возвращались,
путались.
То видела, как малышка сучит ножонками, как комары роятся вокруг
измученного личика... То видела, как качается она на руках, беленькая,
будто спящая, - когда везла слуга.
Как неподвижно лежала в корытце, когда мыли в последний раз, когда
надевали рубашечку... Слышала, как скрипели колеса, когда ехали на
кладбище, как, осыпаясь, шуршал падающий на гроб песок... И раз, и второй,
и несчетно раз, оттесняя другие воспоминания, наплывая на них, виднелась
беленькая, спокойная головка Верочки на подушке в гробу. Все, что ни
возникало, ни появлялось в памяти, проходило странно спокойно, как бы не
отзывалось в Ганниной душе, не тревожило, не бередило болью. Будто не было
ни боли, ни горя, будто перестала вдруг чувствовать их. Все виделось,
воспринималось как неживое. Ко всему была бесчувственна. Бесчувственная
голова, бесчувственное сердце, сама вся бесчувственная...
В бесчувственности ее незаметно для нее самой каменела бесчувственность
к Глушакам. В эту ночь перестали чтолибо значить для нее глушаковские
хата, двор, хлева, сами Глушаки, истлело, испепелилось то, что еще
подчиняло, - покорность, терпеливость, старание угодить...
Только на рассвете, когда в посветлевшие окна глянул обычный, такой
знакомый мир, который все ширился, раздвигался, начинал искриться, что-то
шевельнулось, ожило в ней. Когда на раме сверкнуло, заиграло солнце, будто
льдинка блеснула в Ганне, начала таять. Ночная каменная тяжесть вдруг
свалилась, Ганне стало легче. Но так было только мгновение, сразу же за
этим ожившее сердце пронизала тоска.
День возвращал к действительности. Снова пошли Йоспоминания, но уже не
медленно, а стремительно, беспокойно.
События одно за другим снова оживали в памяти. Все, что было на болоте,