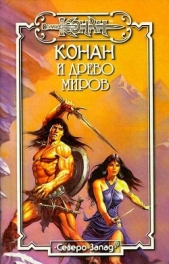Словесное древо
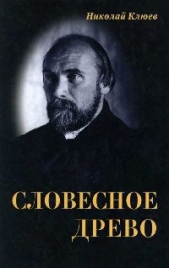
Словесное древо читать книгу онлайн
Тонкий лирик, подлинно религиозный поэт Серебряного века, воспевший Святую Русь и Русский Север, Николай Клюев создал и проникновенную прозу, насыщенную сочным образным языком, уходящую корнями в потаенные пласты русской и мировой культуры. Это — автобиографии-«жития», оценки классиков и современников, раздумья о своей творческой судьбе как художника, статьи, рецензии, провидческие сны, исповедальные письма, деловые бумаги.В настоящем издании впервые с возможной полнотой представлены прозаические произведения Клюева, написанные им с 1907 по 1937 г.Для широкого круга читателей
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
190. Л. И. РАКОВСКОМУ
11 апреля <1933 г.> Москва
Раковскому.
Извините — не знаю Ваших имени и отчества, но мне передавали, что Союз
пожалел меня и постановил помочь мне деньгами, мануфактурой и более сытным
пайком. Мне необходимо крайне получить всё это, а о пайке иметь, конечно,
постановление Союза для Москвы. Помогите мне в этом! Я очень болен и для меня
очень невыносимы хлопоты.
Адрес: Москва, Гранатный переулок, дом 12, кв. 3.
Н. Клюев.
Низко Вам кланяюсь. 11 апр<еля>
191. А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
11 мая 1933 г. Москва
Дорогое мое дитятко, сказка моя прекрасная и ненаглядная, целую тебя, кланяюсь и
припадаю к сердцу твоему со слезами: пожалей меня, не губи, — без игры и
самолюбования, как только прочитаешь это письмо, немедля напиши мне ответ. После
того, как я усадил тебя на извозчика и с сердцем, полным слез вернулся в свой
опустевший угол, я непрерывно все последние недели хвораю. Физическую болезнь
моего сердца ты знаешь, но в душевную мою боль навряд ли веришь. Так вот, я болен
именно этой душевной болезнью, и всё время после твоего отъезда безмерно страдаю,
собирая в одно целое все твои словесные кусочки, звук твоего голоса, выражение глаз и
лица, и, конечно, твоего поведения. Так восстанавливают мелко разорванное письмо —
складывая его буква к букве. Такой работой я и занят день и ночь. Не скрываю, что
работа очень мучительная. Ты, как бы предвидя ее, постарался изорвать письмо
помельче, видимо, еще жалея свою старую добрую ворчунью-няньку, но не в силах
поступиться и крупицей своего Я в пользу этой няни (или деда). Произошло же это в
тебе потому, что ты под напором гужого, холодного мнения обо мне усомнился в моей
мудрости и значительности как человека и художника. А это для тебя и для любви
нашей величайшая опасность, ибо природа любви — это служение любящих друг
друга. Никогда я не верховенствовал над тобой, а только служил и желаю служить, как
дед, как няня Родионовна, даже как последняя кухарка, - до гроба, а в небесном
прощении — первой моей просьбой к Источнику жизни, конечно, будут слова:
благослови, спаси, введи в свою любовь и раба твоего — юношу Анатолия! Но только
не за себя. Это я знаю твердо. Спаси — от широкого пути, ведущего в погибель — к
черным вершинам гор и пропастям! Спаси от путей дешевой авантюры, мишуры
житейской и вредных растлевающих похвал! Пусть дитятко мое идет в голубую страну
(о которой ты пишешь в последнем письме) не путем Шурок Быстряковых и его
страшной компании, не торцовой мостовой жигана, но в общем дурака негодяя
Васильева, а трудной, но радостной тропинкой Иванова, Серова, Гоголя, Рериха,
Чистякова!
Толечка, ласточка моя апрельская, всем опытом, любовью, святыней, заклинаю тебя
— не отравляйся личинами, не принимай за подлинность — призраков Быстряковых и
его патронов, Васильевых и старых, как ад, Эльз Каминских — с непременной
бутылкой с клеве-тами и бесчисленными предательствами! Все подобные исчезают, как
смрадный дым. Пройдешь мимо и не найдешь даже того места, где они были. Даже
житейски пользоваться ими тебе — нет моего согласия. Ты, надеюсь, убедился в этом:
187
получил несколько тюб белил, а заплатил за них лучшей стороной своего существа,
строил рожу по Калитину — идиотскую и безответственную, заискивая перед заведо-
мыми негодяями, в угоду им пьянствовал всю ночь и часть следующего дня (лошадь бы
не выдержала) и этим ввергнул в пучину страдания своего песенного деда... Я до сих
пор болен. Издевательство Васильева надо мною (вот, мол, твой ангел-то! Был пьянее
всех и ночевал - где? не скажу), разговор Быстрякова с Витоном - ехидный, с намеками
на твое величие, и его уверения, что ты никогда у него не бывал, что вечеринки у него
не было и что он тебя видел в последний раз в июне месяце — не считая твоих личных
недомолвок, - всё это сделало свое дело... Проведя страшную ночь в нервной
лихорадке, теперь я вовсе доконал себя. У меня воспаление затылочных нервов. Боль
страшная, временами даже слепну на оба глаза, ночи напролет не сплю, всё вижу тебя в
ужасных превращениях. Сегодня всю ночь отбивался от тебя - будо ты хочешь всадить
мне нож, а я, слепой, не вижу твоего дорогого лица, только умоляю выслушать меня!
Собираюсь в пять часов в клинику к профессору Вер-зилову по нервам. Виктор
проводит меня. Головой я не могу пошевелить. Шея сзади опухла, уши заложило, и
болят глазные яблоки. Движусь лихорадкой — пишу тебе, пока вижу бумагу, при
первом же ударе ослепну, как Озаровская. Мысленно смотрю — не нагляжусь в твои
глаза-яхонты, любовь моя нетленная, лосенок мой душистый, но, конечно, не в глаза,
поставленные по калитинской школе - мутные, как у лунатика, а строгие и умные, без
улыбочки на лице — что так украшало тебя! И что влекло к тебе старших серьезных
людей.
Рыдая, продолжаю писать. Вот тебе еще пример из книги жизни: ты жадно смотрел
на Васильева, на его поганое дорогое пальто и костюмы — обольщался им, но это
пустая гремящая бочка лопнула при первом ударе. Случилось это так: Оргкомитет во
главе с Тройским заявили, что книги Васильева - сплошной плагиат - по Клюеву и
Есенину — нашли множество подложных мест, мою Гусыню в его поэме и т. д., и т. д.
Немедленно вышел приказ рассыпать печатный набор книг Васильева, прекратить
платежи и договоры объявить несостоятельными, выгнать его из квартиры и т. д.
Васильев скрылся из Москвы. Все его приятели лают его, как могут, а те дома, где он
был, оправдываются тем, что они и не слыхали и незнакомы с Васильевым и т. п., и т. п.
Вот тебе, дитятко, памятка, к чему приводит легкий путь авантюры без труда и
чистого сердца! Замутится разум у художника, и неминуемо отразится это на искусстве.
Вспомни рассказ Грабаря о Сомове! Твой же дед, вопреки чужому холодному мнению,
имеет право и замолчать, как имеют на это право, напр<имер>, Нежданова, Шаляпин
— что в том плохого, если Сирин-птица, отпев свои земные песни, вознесется домой, в
рай?! Ты же моим молчанием и одиночеством смущен. Не смущайся, любовь моя
сладкая, после твоей Родионовны (так звали няню Пушкина) останется <ноский> чулок
и волшебные спицы, и тебе, при всем твоем славолюбии, не придется стыдиться
дружбы с нею! Предсказываю тебе: если ты повредишь нравственное существо в самом
себе, - то и с тобой будет то же, что и с Васильевым. Мой долг сказать тебе это.
Выпивоны с недоросшими до тебя в культуре сверстниками самое длительное года
через два-три сделают из тебя дисгармоничное обозленное, как Клычков, Есенин,
существо с пропадом впереди. Поэтому молю тебя, свет мой, уклоняйся от выпивонов,
как бы они по виду невинно <ни> были обставлены.
Есенин гораздо позже твоего, 27 лет, стал привыкать к рюмочке — сперва только к
портвейну, и через четыре с небольшим года его путь кончился в меблиражке на
собачьей веревке. Напиши мне чистосердечно и просто, как старой няньке — поклон и
объясни, что значит, что Быстряков уверяет, что никакой вечеринки у него не было и
что ты у него никогда не ночевал и никакого у него дивана под лестницей не
существует, где бы ты мог спать, тем более в квартире его патрона и мецената? Если ты
188
этот мой вопрос замолчишь, то доконаешь меня окончательно. Клянусь тебе, что
любовь моя останется невозмутимой, как лесное озеро! Ведь только от лжи оно тем-
неет. Не подбирай слов для своего ответного письма. Всё можно сказать твоему деду.
Всё он поймет. Всё примет во внимание. Бережно, с истовым доверием приму я каждое
слово твое - ласточка моя! Где ты был в проклятую ночь? Помню, пахло от тебя чужим