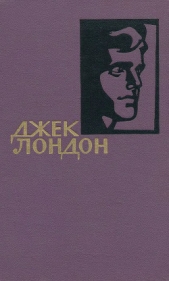Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

Сонаты: Записки маркиза де Брадомина читать книгу онлайн
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности имя Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хорошо, видно, вас принимал король. Господину маркизу де Брадомину жаловаться не приходится!
— Король знает, что другого такого верного слуги он не найдет, — мрачно сказал я.
— Найдет, — столь же глухо, но только тоном ниже пробормотал монах.
Мы продолжали наш путь молча, пока не повернули за угол, где горел фонарь. Эсклаустрадо остановился:
— Да, но куда же мы идем? Известная вам сеньора просила передать, чтобы вы, если можно, повидали ее сегодня же вечером.
Сердце у меня забилось:
— Где?
— У нее в доме. Только войти туда надо будет потихоньку. Я вас проведу.
Мы вернулись обратно, пройдя еще раз по улице, мокрой и безлюдной. Брат Амвросий прошептал:
— Графиня только что ушла… Сегодня утром она велела мне ее дожидаться. Разумеется, она хотела передать со мной ее просьбу господину маркизу. Она боялась, что ей не удастся поговорить с вами в королевском дворце.
Монах вздохнул и замолчал. Потом он засмеялся своим странным, раскатистым, ни с чем не сообразным смехом:
— Ну, слава богу!
— Что с вами, брат Амвросий?
— Ничего, господин маркиз. Просто мне приятно, что я выполнил это поручение, столь почетное для старого воина! Ах! Как радуются все мои семнадцать ран…
Он замялся, ожидая, должно быть, что я ему что-нибудь отвечу, но, так как я молчал, продолжал с той же горькой усмешкой:
— Да, это так, нет должности лучшей, чем быть капелланом у ее светлости, графини де Вольфани. Как жаль, что она не могла лучше выполнить своих обещаний!.. Она говорит, что это не ее вина, что виноват дворец короля… Там собрались враги мятежных священников, и нельзя ни в чем им перечить. Ах, если бы это зависело от моей славной покровительницы!..
Я не дал ему окончить. Потом, помолчав немного, очень решительно сказал:
— Брат Амвросий, терпение мое истощилось, больше я ни слова не хочу слышать.
Он опустил голову:
— Господи помилуй! Хорошо, хорошо.
Мы продолжали идти молча. Время от времени на пути нашем попадался фонарь, вокруг которого плясали тени. Проходя мимо зданий, где были размещены войска, мы слышали звуки гитары и молодые сильные голоса, распевавшие хоту. Потом снова наступала тишина — ее нарушали только окрики часовых и лай собак. Мы вошли в подъезд и продолжали идти в темноте. Брат Амвросий шел впереди, указывая мне дорогу. Совсем тихо перед ним отворилась дверь. Эсклаустрадо вернулся и сделал мне знак рукой. Я последовал за ним и услыхал его голос:
— Можно зажечь свечу?
И другой голос, голос женщины, ответил из мрака:
— Да, сеньор.
Дверь снова закрылась. Я ждал, окутанный темнотой, пока монах не зажег огарок свечи, от которого запахло церковью. В просторной прихожей задрожало бледное пламя, и его неясные отблески озарили голову монаха, тоже дрожавшую. Мелькнула какая-то тень. Это была служанка Марии Антониетты. Монах передал ей свечу и увел меня в темный угол. Я скорее угадывал, нежели видел, как отчаянно дрожала его голова с выстриженной на ней тонзурой.
— Ваша светлость, я больше не могу выполнять обязанности сводника. Это недостойное дело! — И его костлявая рука впилась мне в плечо. — Господин маркиз, настало время произвести расчет. Вы должны дать мне сто унций. Если у вас их нет при себе, вы можете попросить у сеньоры графини. В конце-то концов, она ведь мне их сама предложила.
Как я ни был всем этим поражен, я совладал с собою и, подавшись назад, схватился за шпагу:
— Худой вы выбрали путь. Угрозами вы ничего от меня не добьетесь, брат Амвросий, и гордыми жестами вам меня не запугать.
Эсклаустрадо опять засмеялся своим странным, издевательским смехом:
— Не говорите так громко. Может пройти ночная стража, и нас услышат.
— Вы что, боитесь?
— Никогда я ничего не боялся. А сейчас вот, если вдруг явится кто-нибудь из свиты графини…
Догадавшись о коварном намерении монаха, я сказал глухим, сдавленным голосом:
— Это ловушка! И подлая!
— Это военная хитрость, господин маркиз. Лев попал в западню!
— Мерзкий монах, мне хочется убить тебя этой шпагой.
Эсклаустрадо растопырил свои длинные костлявые руки, открыв грудь, и его дотоле робкий голос стал громче.
— Убивайте! Труп мой молчать не будет.
— Ну хватит!
— Деньги вы мне дадите?
— Да.
— Когда?
— Завтра.
Несколько мгновений он молчал, а потом робко и вместе с тем решительно стал настаивать:
— Надо, чтобы это было сегодня.
— А разве моего слова недостаточно?
— Я верю вашему слову, — почти униженно пробормотал монах, — но надо, чтобы это было сегодня. Завтра, может быть, у меня не хватит храбрости от вас их требовать. К тому же сегодня вечером я собираюсь уехать из Эстелви. Деньги эти предназначаются не для меня, я не какой-нибудь мошенник. Они нужны мне, чтобы бежать. Я оставлю вам расписку. Я связал себя обещанием, и мне необходимо было решиться. Брат Амвросий привык держать свое слово.
— А почему же вы не попросили эти деньги у меня по-дружески? — печально спросил я.
Монах вздохнул:
— Не посмел. Не умею я просить. Совестно. Мне легче убить, чем попросить. Не потому, что я что-то дурное задумал, просто совестно…
Измученный, не в силах больше вымолвить ни слова, он замолчал и устремился на улицу, не обращая внимания на проливной дождь, который хлестал по каменным плитам мостовой. Дрожавшая от страха служанка повела меня к своей госпоже.
Мария Антониетта только что пришла и сидела у жаровни, скрестив руки; ее мокрые волосы были растрепаны. Когда я вошел, она подняла на меня глаза, печальные и подернутые лиловатою тенью:
— Почему ты так добивался прийти сюда именно сегодня?
Задетый сухостью ее тона, я остановился посреди комнаты:
— Мне неприятно тебе об этом говорить, но это проделки твоего капеллана.
— Когда я вошла, — жестко сказала она, — я увидела, что он по твоему приказанию дожидается моего прихода.
— По моему приказанию?
Я замолчал, продолжая смиренно выслушивать ее упреки, решив, что, рассказав о том, что со мной приключилось, я могу ее испугать. Устремив на меня бесстрастный взгляд, она прерывающимся голосом сказала:
— Сейчас тебе так захотелось меня видеть. А ведь за все время не написал ни одного письма! Молчишь!.. Что тебе от меня надо?
Мне захотелось ее успокоить:
— Мне надо тебя, Мария Антониетта!
В красивых, таинственных глазах графини вспыхнул огонек презрения:
— Ты хочешь скомпрометировать меня, чтобы королева отдалила меня от себя. Ты мой палач!
Я улыбнулся:
— Я твоя жертва.
Я взял ее руки, собираясь поцеловать их, но она гордо их отдернула. Мария Антониетта была больна той болезнью, которую древние называли священной, {85} и, так как у нее была душа праведницы и кровь куртизанки, то в зимнее время она подчас отказывала себе в любви. Бедняжка принадлежала к той породе замечательных женщин, которые в старости являют собой поучительный пример созерцанием своей прежней жизни и смутными воспоминаниями о совершенных когда-то грехах. Погруженная во мрак, она хранила молчание и только по временам вздыхала; глаза ее были устремлены вдаль. Я снова схватил ее руки и держал в своих, уже не целуя их, боясь, что она снова их отдернет. Я ласково умолял ее:
— Мария Антониетта!
Она молчала. Спустя несколько мгновений я опять взмолился:
— Мария Антониетта!
Она обернулась, отдернула руки и холодно бросила:
— Что тебе надо?
— Знать, что тебя печалит.
— Зачем?
— Чтобы тебя утешить.
Она утратила вдруг свое гордое спокойствие и, повернувшись ко мне, яростно, страстно вскричала:
— Вспомни свою неблагодарность! От нее-то я и страдала.
Глаза ее горели тем огнем любви, который, казалось, испепелял ее всю. Это были глубокие, подернутые тайной глаза; такие прячутся порою под монашескими токами в монастырских приемных.