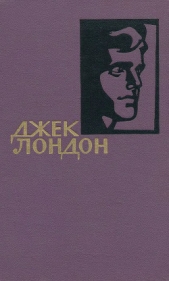Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

Сонаты: Записки маркиза де Брадомина читать книгу онлайн
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности имя Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дом герцогини Уклеоской, — сказал брат Амвросий.
Я улыбнулся, угадав лукавую мысль монаха:
— Она все такая же красавица?
— Говорят, что да… Лица ее я ни разу не видел — она всегда его закрывает.
Я только вздохнул:
— Когда-то мы с ней были большими друзьями!
Монах осторожно кашлянул:
— Кое-что я об этом знаю.
— Рассказала на исповеди?
— Какая там исповедь! У бедного эсклаустрадо нет таких сиятельных духовных дочерей.
Мы продолжали наш путь молча. Мне невольно вспомнилась лучшая пора моей жизни, время, когда я был влюбленным и поэтом. Далекие годы всплывали в памяти, полные того очарования, каким проникнуто все полузабытое и доносящееся до нас вместе с ароматом увядших роз и звучанием старинных стихов.
Ах, эти розы, эти стихи того блаженного времени, когда моя любимая была еще танцовщицей! Стихи в восточном духе, которыми я прославлял ее, в которых говорил, что тело ее изящно, как пальма в пустыне, и что все грации собираются вокруг нее, и поют, и смеются под звуки золотых бубенцов. По правде говоря, я не находил похвал, достойных ее красоты. Ее звали Кармен, и она была хороша собой, как само это имя, исполненное андалузской нежности, имя, которое по-латыни означает «песнь», а по-арабски — «сад». Вспоминая ее, я вспоминал также и годы, которые прожил вдали от нее, и подумал, как она бы рассмеялась в то время своим звонким смехом, увидав меня в монашеской рясе. Почти машинально я спросил брата Амвросия:
— Герцогиня и сейчас живет в Эстелье?
— Она — придворная дама королевы нашей, доньи Маргариты. Но, кроме церкви, она нигде не бывает.
— Мне хочется вернуться и зайти в этот дом.
— Еще будет время.
Мы достигли церкви пресвятой девы Марии и вынуждены были подняться на ступени, чтобы пропустить ехавших впереди всадников. Это были кастильские уланы, которые возвращались из окрестностей города, где они несли караул. В звуки горнов вторгалось конское ржание, по древней мостовой звенели подковы воинственным и благородным звоном, каким в рыцарских романсах звенит оружие паладинов. Кавалеристы проскакали, и мы могли продолжить наш путь.
— Ну вот и пришли, — сказал брат Амвросий.
И он показывает мне на маленький домик в конце улицы с высоким деревянным балконом на столбах. Старая гончая, дремлющая у входа, увидав нас, рычит, но даже не поднимается с места. В передней темно, как в хлеву, пахнет травой и навозом. Ощупью взбираемся по лестнице, ступени которой дрожат. За одно мгновение монах взбегает наверх, дергает висящую возле двери цепочку, и внутри уже дребезжит звонок. Слышатся шаги и ворчливый голос хозяйки:
— Можно ли так названивать! Что случилось?
— Открывай! — повелительно кричит монах.
— Пресвятая дева! Что за спешка!
Она продолжала ворчать, пока не отперла дверь. Монах, в свою очередь, раздраженно пробормотал:
— Терпения нет с этой бабой!
Дверь распахнулась, но старуха все еще не могла уняться:
— Никак, видно, нельзя, чтобы никого с собой не приволочь! Так много всякой снеди в доме, что каждый день надо людей приводить, чтобы управляться помогали!
Брат Амвросий, бледный от гнева, угрожающе поднял свои огромные желтые пергаментные руки, и растопыренные пальцы их закачались над его неизменно дрожавшей головой:
— Замолчи, скорпионий язык! Замолчи, научись людей уважать. Знаешь, кого ты сейчас последними словами обругала? Знаешь? Знаешь, кто перед тобой? Сейчас же проси прощения у маркиза де Брадомина!
До чего же обнаглели все эти потаскухи! Услыхав мое имя, эта баба не испытала ни раскаяния, ни сожаления. Она впилась в меня своими пронзительными черными глазами, какие бывают у старух на картинах Гойи, и, едва шевеля губами, недоверчиво пробормотала:
— Если вы в самом деле кабальеро, доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Аминь!
Она отошла в сторону, чтобы дать нам пройти. Но мы слышали, как она все еще бурчала:
— И грязи же мне нанесли! Праведный боже, что они с моими полами сделали!
Мы действительно самым варварским образом испакостили ей полы, чистые, свеженатертые, сверкающие, не полы, а сущие зеркала, в которые можно было глядеться, которые она любила, как любят их старые домовитые хозяйки. Я оглянулся и в ужасе увидел содеянное мною кощунство. Старуха воззрилась на меня с такой ненавистью, что мне стало жутко:
— Добро бы еще дело делали — керосинщиков проклятых убивали! Во что только вы мои полы обратили! Креста на вас нет!
— Молчи! — крикнул брат Амвросий из комнаты. — Шоколаду нам поскорее подай!
В доме было так тихо, что голос его грянул, точно выстрел. То был голос, которым он в былые времена приказывал своим соратникам, единственный голос, которого они боялись. Но старуха эта, по всей вероятности, в душе была все же сторонницей Изабеллы, потому что, едва только брат Амвросий снова замахал своими пергаментными руками, она еще кислее пробормотала:
— Поскорее!.. Когда подам, тогда и подам! Ах, господи Иисусе, дай только мне терпение!
Брат Амвросий стал раскатисто кашлять, а где-то в глубине дома все еще продолжало слышаться глухое ворчание хозяйки. Когда же на несколько мгновений наступила тишина, раздалось тикание часов, словно это бился пульс дома, где жил монах и где властвовала эта окруженная котами старуха: тик-так, тик-так! То были стенные часы с маятником и гирями. Кашель брата Амвросия, брюзжание хозяйки, говор часов — казалось, что все эти звуки подчинялись одному ритму, странному и ни с чем не сообразному, словно подслушанному в заклинаниях какой-нибудь ведьмы.
Я снял монашескую рясу и остался в одежде папского зуава. {69} Брат Амвросий смотрел на меня с детским восхищением, широко разводя своими несуразными длинными руками:
— Подумать только, какой диковинный наряд!
— А вы разве никогда не видали?
— Только на картинах, на одном портрете инфанта дона Альфонсо. {70}
Голова его с зиявшей на ней тонзурой дрожала. Ему не терпелось узнать правду о моих приключениях:
— А может быть, вы все-таки соблаговолите сказать, откуда у вас эта ряса?
— Просто-напросто переоделся, — равнодушно ответил я, — чтобы не попасть в руки проклятому попу.
— Санта-Крусу? {71}
— Ну да.
— Штаб-квартира его сейчас в Оярсоне.
— А я приехал из Арьяменди; лежал там в одном загородном доме в лихорадке.
— Подумать только! А почему это Санта-Крус так вас не любит?
— Он знает, что я добился от короля приказа Лисарраге {72} расстрелять его.
Брат Амвросий выпрямился во весь свой огромный рост:
— Худое дело! Худое! Худое!
— Этот поп — бандит! — решительно сказал я.
— Для войны бандиты необходимы. Впрочем, откровенно говоря, это же не война, а масонский фарс.
Я не мог сдержать улыбки.
— Масонский? — спросил я, развеселившись.
— Да, масонский: Доррегарай {73} — масон.
— Но кто настоящий охотник за этой дичью, так это Лисаррага. Он поклялся ее уничтожить.
— Не дело затеял дон Антонио. — Монах подошел ко мне; он обхватил руками свою дрожащую голову, словно боялся, что она вдруг соскочит с шеи. — Дон Антонио воображает, что на войне проливают не кровь, а святую водицу. Он хочет все уладить причастием, а на войне люди причащаются свинцовыми пулями. Дон Антонио такой же убогий, никчемный монах, как и я. Да что я говорю — куда никчемнее! Хоть он и не давал обета. Нам, старикам, тем, кто в прошлую войну воевал, когда мы видим все это, становится стыдно, попросту стыдно!.. Я от этого, можно сказать, заболел.
И, еще крепче обхватив руками голову, он уселся в кресло и стал ждать шоколада, ибо в коридоре уже послышались шаги хозяйки и на металлических подносах зазвенели рюмки и чашки. Хозяйку нельзя было узнать. На лице у нее сияла благодарная улыбка, какая бывает у благодушных старух, занятых стряпней, молитвами и штопанием чулок: