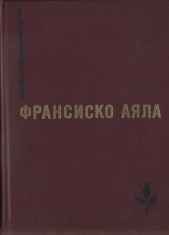Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зашла речь на этом совете и обо мне. Один из старших братьев отца великодушно заявил, что возьмет меня к себе, чтобы я не мешал отцу в его великом начинании; если надо, он усыновит меня и даже будет учить. «Если заслужишь», — добавила тетка, у которой был запломбированный зуб. Каким же образом можно это заслужить? Мне было десять лет. Взгляд мой на минуту остановился на матери. Молча наливала она вино во все быстрее пустеющие стаканы и на мой вопрос ответила только безмолвным кивком головы. Она молчала, и я один знал, что означает это молчание. Но уже в следующую минуту я смотрел в окно, за которым сгущались сумерки, и ломал голову над тем, как бы мне удрать и побыть еще хоть немного с моей лошадью. Я жил в собственном замкнутом мире.
Я и в гости ездил на лошади, вызывая немалый переполох в желлеровском квартале, куда меня инстинктивно тянуло. Я навещал Кошарашей и прочих старых знакомых по пусте. Эта компания была по мне. С ними у меня развязывался язык, они знали, кто я такой, а может, меня влекло к ним только потому, что среди них я еще мог чувствовать себя кем-то? Ведь человеку так трудно отказаться от роли наследного принца.
Нищета здесь была безысходная. Бывшие батраки, превратившиеся в бездомных бродяг, снимали углы у тех, кто прошел через это раньше. Хозяин дома вечно голодал, так же как и его постоялец. Жили они вместе в одной комнате; здесь, в одной комнате, теснилось еще больше семей, чем в пусте. Если был хлев, жили и в хлеву, а одна батрацкая семья переоборудовала даже старый закут, привезенный из пусты, и ютилась в нем. Но все это казалось мне весьма забавным и идилличным, потому что напоминало о пусте.
И так было всюду, куда я ни приезжал на своей лошади, — и в соседнем селе, и по дороге в Цеце, к бабушке, когда надо было проехать через два села. На главной улице я пускал своего друга в галоп, а на окраинах мы шли шагом, с любопытством вертя головами то вправо, то влево. Каждое селение, даже самое богатое, выглядело убогим и грязным на окраинах, словно его сразу же, как только оно возникло, обваляли, точно котлету, в прогорклой панировке скудности и нищеты. Почти везде я встречал знакомых. Бывшие обитатели пусты кое-где жили еще хуже, чем в Шимонторне. Или просто в голове у меня стало проясняться и я начал наконец видеть, что творится вокруг? Чем больше сёл я навещал, тем безотраднее становилась картина. Однако как о сексуальной жизни в пусте я узнал лишь позднее, понял уже зрелым рассудком, так и жизнь желлеров раскрылась передо мной по-настоящему только много лет спустя, когда, освежая свои воспоминания, я снова вернулся в эти места. Картина тем временем стала еще более контрастной. Отдельные ее фрагменты ужасали меня больше, чем смертельно бледные, дрожащие, помятые рабские лица, которые когда-то я видел улыбающимися и которые теперь смотрели с безумным отчаянием утопающих. Потому что большинство этих людей уже и говорить-то осмысленно не могли: жидкая грязь затопила их по самое горло, они захлебывались, широко разевая рот, а увидев руку помощи, начинали рыдать и кричать наперебой. Все они очень сильно изменились. Дядя Лепарди, который когда-то помогал меня воспитывать, и не только убеждением, теперь назвал меня «ваше превосходительство» и расплакался, когда я спросил его, почему он не говорит со мной, как прежде, на «ты». Что с ними случилось? Дядя Иштван Надь зарубил топором свою жену за то, что она заставляла его, восьмидесятилетнего, ходить на поденщину; об этом случае даже комитатская газета написала четыре строчки. Дядя Пали Цабук, одинокий вдовец, который когда-то проверял, как я приготовил уроки, потом просто исчез. И никто не знал, жив ли он еще, умер ли, а если умер, то где предан земле.
19
Кому из них удалось подняться наверх, на свежий вольный воздух, в мир свободной мысли, чтобы поведать людям, как живут те, кто остались внизу? Пожалуй, никому. Как батрак перед хозяином начинает заикаться и разводить руками — если не держит их по швам, — так и разные слои общества могут объясняться друг с другом, лишь запинаясь и помогая себе, где плечом, где кулаком. Если и случалось, что уроженец пусты проникал в более высокую в духовном отношении среду, то ничего от пусты он с собой не брал. Да и не мог взять. Сырую козью шкуру, чтобы превратить ее в тончайший сафьян, не отмачивают, не дубят, не мнут и не скоблят так, как паренька из пусты, попавшего благодаря какой-то чудесной случайности в среднюю школу и ставшего членом просвещенного общества. Но об этом уже шла речь в самом начале. Взглянем хоть и в том же направлении, но несколько дальше. Какой процент от общего числа слушателей высших учебных заведений Венгрии составляют выходцы из многомиллионной армии батраков и желлеров? Его трудно выразить не только в сотых, но и в тысячных долях. В этом кроется одна из форм ограничения, более того, это и есть самый настоящий ценз, хотя о нем даже самые ярые противники всяких цензов не сказали и полслова. Я не знаю ни одного батрака, который учил бы своего сына в средней школе.
Виноградарь из П. учил своего сына, пока хватило сил, — до третьего класса гимназии, до тех пор, пока пареньку не привилась мечта о лучшей жизни, а место прививки не превратилось в рану, никогда не заживающую и ноющую от малейшего прикосновения. Бывали, правда, иной раз случаи, когда барин устраивал сына своего лакея или выездного кучера на бесплатное учение. О капеллане из М. поговаривали, будто он сын полевого сторожа. Когда я осторожно, прощупывая почву, хотел расспросить его об этом, после первого же намека он густо покраснел и энергично запротестовал. Когда в местечке Д., почти слившемся с Т.-пустой, открыли гимназию, староста и амбарщик записали туда своих сыновей. Но они все же не были батраками и наверняка обиделись бы, если бы кто-нибудь назвал их таковыми.
Стремление батраков к образованию воспринималось неодобрительно. Даже приказчики смотрели на это косо. О том, кого до войны заставали за чтением, говорили, что он корчит из себя барина, а вскоре после войны — что он коммунист. Нелестное мнение складывалось и о тех, кто пользовался хотя бы элементарными достижениями цивилизации. В К.-пусте уволили одного работника только за то, что он в ноябре месяце натянул на руки перчатки, чтобы двигать рычаг сеялки. «Ай-ай, а вот в наше время…» — увидев у кого-нибудь из работников подтяжки, качал головой какой-нибудь помощник управляющего. А когда девушки стали надевать по воскресеньям туфли на высоких каблуках, жены сельской интеллигенции усмотрели в этом признак подрыва моральных принципов общества и не уставали сокрушаться: как же теперь отличить работницу от госпожи? Если какой-либо батрак не был груб и вульгарен, не сквернословил, это уже само по себе вызывало подозрение. Кого он из себя корчит? Боялись, как бы человек не стал барином. В этом весьма странным образом — ведь сами-то тоже были барами — усматривали мягкотелость, безволие и даже склонность к воровству.
Выбиться в люди потомки батраков получали возможность в лучшем случае лишь в третьем-четвертом поколении. Кого-нибудь из членов семьи, занесенной из пусты в село, иногда уносило еще дальше — в город. Люди практичные интуитивно подыскивали себе лакейскую работу. Поденной работы старались избегать, зная по опыту, что это такое; норовили устроиться курьерами в учреждение, сторожами в школы, швейцарами. Те, кому это удавалось, следуя примеру господ, пытались дать своим детям образование. Но что знают эти внуки и правнуки о жизни в пусте? И что они могут сделать для нее, если даже случайно и сохранили верность своему роду, чувство долга, налагаемое на человека происхождением, против чего нельзя возражать, поскольку это чувство зовет на борьбу не за какие-то незаконные привилегии, а за законные права? Сын дяди Хаяша стал курьером уездного суда в Пеште, а его внук — юристом. Об этом сам дядя Хаяш только слышал, юриста же этого видел лишь на фотографии, с гордостью поставленной на комод. Пожалуй, поспешно утверждаем мы порой, что под влиянием нынешнего, якобы народного направления мысли многие с гордостью говорят о своем происхождении из самых низов народных, совсем как магнаты — о своих предках. Не думаю, что внук дяди Хаяша в разговорах часто щеголяет своим дедом. По опыту знаю, что в салонах такие деды превращаются в благодушных помещиков, нередко получая к фамилии приставку, указывающую на их высокое происхождение.