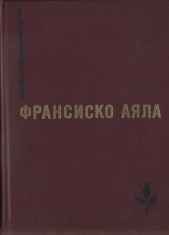Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бабушка взяла дело в свои руки. Она уже знала, что рассчитывать на нашу семью нельзя. Начавшееся в последние годы на некоторых участках фронта отступление превратилось в паническое бегство. Бабушка по отцовской линии, расхворавшись, ослабила руководство боевыми действиями, ее приверженцы, все израненные, вынуждены были спуститься со стен осажденной крепости. Некоторые бастионы они еще удерживали, но уже чуждались тех, кто шел за ними снизу, искали примирения с теми, кто стоял выше. Мой старший брат так и не закончил средней школы, и матери с трудом удалось отдать его в обучение подходящему ремеслу. Удастся ли забросить меня в замок последним? Бабушка собрала все свои силы, всю свою изобретательность. План ее был трогательно замысловат и вместе с тем простодушен, как выдумки Одиссея.
Я не знаю, как велась тогда религиозная борьба в высших церковных сферах. Волны ее, докатываясь до нас, сшибались с диким грохотом, высоко взметая брызги и захлестывая порой целые комитаты. Чуть ли не каждое село было наполовину католическим, наполовину реформатским. С кафедр церквей, стоящих в разных концах главной улицы, святые отцы с гневом Пазманя и Альвинци [101] потрясали кулаками, грозили и проклинали. Будоражили и ревниво оберегали свою паству. За каждого новорожденного от смешанных браков разгоралась ожесточенная борьба: в чей загон попадает новый ягненок? Ну а паства хмыкала да отмахивалась, не особенно разбираясь в существе дела. А вот бабушка, та разбиралась. В один прекрасный день она, забрав с собой рекомендательные письма и свидетельство о моей успеваемости, отправилась в путь. Отобрала из моих рисунков несколько шедевров и даже заставила меня переписать начисто одно из моих стихотворений: к тому времени я в большой тайне уже кропал вирши. К сожалению, ни в Папе, ни в Пече меня не признали. Бабушка всюду предлагала мою душу по довольно сходной цене — за бесплатное обучение и общежитие. Ездила она и в Боньхад, в евангелистскую школу. Тщетно. Борьба была упорной.
Вернулась она вне себя от гнева и с тех пор весьма нелестно отзывалась о святых отцах и о религии вообще.
Снова приближался сентябрь, шестой класс начальной школы. Все махнули рукой на мое будущее, и я тоже. Целое лето я был на положении выставленного на продажу теленка: жалобно мычал, ну а теперь вдруг почувствовал свободу.
Но бабушку, как закаленного борца, упорного фехтовальщика, поражения только звали к новым боям. В последний момент она еще раз попыталась искусить судьбу. Это уже походило на жест азартного картежника, который, проиграв все деньги, продолжает игру в кредит. Был еще один план. В Веспреме меня обещали взять на бесплатное обучение в семинарию, если я окончу четвертый класс гимназии на «отлично». Короче, родителям придется со мной возиться, только пока я буду учиться в первых четырех классах. Обещание было дано устно, однако в благоприятные обещания бабушка слепо верила.
Одна из сестер отца жила в городке — центре соседнего уезда, там была гимназия. Она согласилась взять меня к себе на квартиру с питанием за плату, ничуть не меньшую той, которую могли бы запросить за это чужие люди. «Остальное будет зависеть от тебя», — сказала бабушка, когда все мои вещи были собраны и упакованы, и затем обратилась ко мне с пространным наставлением, столь обычным во всех романах с описанием подобных сцен. «Священника, конечно, из тебя не получится, — говорила она, — но все-таки готовься к этому». Я понял, что мне нужно притвориться, и не возмутился; кивнул головой, наморщил лоб и снова кивнул. Перед тем как проститься, она отозвала меня в сторону и сказала, чтобы я не робел: мое будущее обеспечено! Деньги, вырученные за лошадь — восемьдесят крон, — она положила в сберегательную кассу на мое имя. По окончании учебы я смогу взять их, чтобы заложить основу своей карьеры, однако разумнее будет не трогать их до самой женитьбы. «А до той поры как-нибудь и сам перебьешься», — сказала она. С серьезным видом, несколько даже чопорно я поцеловал ей руку; поняв игру, я почувствовал себя мужчиной. Деньгами на питание я не был обеспечен и на полгода.
В маленьком уездном городке я поначалу страдал, и страдал жестоко, так, будто с меня ежедневно сдирали кожу. Мне пришлось пережить мучительный процесс линьки, во внешности — тоже.
Одежду нам всегда шила мать. Но настоящий костюм, барского покроя, в котором меня выпустили в новую жизнь, сшил мне уже портной, что жил в нижнем конце села и брал подешевле. Дома я не осмеливался появиться в этом костюме даже вроде бы для примерки, я и сам считал его смешной шутовской тряпкой. Однако насколько он был смешон в действительности, выяснилось уже в городе. Мои школьные товарищи ходили в коротких брючках. Господин Кеслер мои брюки кроил тоже короткими, но выглядели они как получившиеся слишком короткими длинные брюки. Обе штанины заканчивались только на одну ладонь выше щиколоток. Две недели болел я душой, пока не излил свою боль в почтовой открытке матери. Но что делать? Ведь то были единственные подходящие для города брюки. Через некоторое время я получил другие брюки, которые были уже покороче сантиметра на два, но именно поэтому выглядели, пожалуй, еще смешнее, чем первые.
Я снова написал письмо, к тому же я мог уже отослать обратно первые брюки, однако господин Кеслер так осторожно прикасался к ним, словно ему приходилось резать по живому. Они не стали значительно короче и после второго захода, на этот раз уже из-за вмешательства матери, которая кротко разъяснила мне в письме, что брюки шились на несколько лет и я должен терпеливо носить их, а со временем, годика через два, ни у кого не будет таких красивых брюк, как у меня. Я понял, что моих мучений не понимают и дома, повздыхал, а потом сам откромсал лишний материал, сам и подрубил, применив умение, за которое должен быть благодарен бабушке. Это было первое мое самостоятельное деяние, первый признак отчуждения от семьи. После этого я вздохнул с облегчением.
К учебе я относился, как бедный пациент относится к дорогому лечению в больнице: уж если я в гимназии, то за истраченные деньги надо получить максимум. А может, как к поденной работе? Свою работу я считал легкой и не хотел ее потерять; все, что от меня требовалось, я старался исполнить даже лучше, чем следовало: что это было для меня по сравнению с окучиванием или даже с подвязыванием винограда? Здесь, в городе, никто не знал меня, и мне дышалось вольготнее, чем в пусте. В чужих мне улицах было что-то от простора пусты, точно так же, позднее, крупнейшие города мира напоминали мне о безбрежных полях родины. Лишь иногда появлялось у меня щемящее чувство, которое бывает порой и ныне, — опасение, что окружающие меня люди в один прекрасный день догадаются о чем-то, возможно о том, что они приняли и терпят меня в своей среде по ошибке, и за ухо выведут обратно, поближе к хлевам Рацэгреша. В такие минуты я терялся, впадал в уныние. Но потом в душе моей пробуждалось привитое бабушкой упорство, и внутренний голос внушал: держись, укрепляй свои позиции! От горба, выросшего у меня в душе, я смогу избавиться, только если сам буду держаться прямо, прямее других. Еще не отдавая себе ясного отчета зачем, занимался я систематически и упорно и вскоре стал примерным учеником, чтобы, вдруг взбунтовавшись против увечения своей души, стать особенно плохим. Пока, однако, по видимости все шло на лад. И вот тогда-то пуста еще раз притянула меня к себе. Притянула и отпустила, но уже не знаю, не тогда ли привязала невидимыми узами навечно.
В нашем классе учились еще два мальчика из пусты. Оба они ходили в таких же костюмах, как я, — такими бедняки вообще представляют себе модные платья господ. По этому признаку мы и узнали друг друга. Один носил брюки под стать моим, к тому же еще из вельвета в рубчик, другой — чулки, но с поперечными синими полосками, какие носили тогда женщины. Испуганно шарахались мы друг от друга, как лжепривидения в буффонаде. Вполне разделяя мнение всего класса, я считал их несносными, как наверняка и они меня.