Страстотерпцы
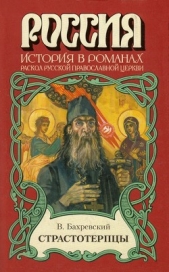
Страстотерпцы читать книгу онлайн
Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крестились, плача, но как царём велено.
Обратился Елагин и к Луке Лаврентьевичу, вопрошая взглядом.
— Я Исусу Христу не враг, — сказал юноша. — Я с Фёдором.
Елагин досадливо махнул рукой, и Луку Лаврентьевича тотчас поволокли из избы вон.
— Куда без шубы тянете? Холодно! — запричитала Анастасия Марковна.
Засмеялись, оттолкнули, о шубу ноги вытерли. Вернулись весёлые.
— Не брыкался, не кричал. Без хлопот обошлось. Висит.
— Ладно, — сказал Елагин, поднимаясь. — Пора отдохнуть с дороги. Завтра тебя, тебя и тебя, — указал на Ивана, Прокопия, на Анастасию Марковну, — в ямы посажу, всем прочим будет порка.
Пошёл из избы, но в дверях остановился:
— Повешенных не трогать. Кто тронет, сам будет завтра висеть.
Гости за дверь, и Анастасия Марковна за дверь, с шубой. Прикатила пенёк, надела шубу на милого, на захолодавшего Луку Лаврентьевича. Целовала ноги убиенным.
Всю ночь молилась, о себе плача: дрогнула удостоиться Царства Небесного.
Утром приехали сани от воеводы. Ивана, Прокопия и Анастасию Марковну увезли в съезжую избу. С каждого взяли «скаску» — заставили подписать бумагу: «Соборной и апостольской церкви ни в чём не противны».
А ямы уже были приготовлены. Ивана с Прокопием посадили вместе.
Сделав дело в Мезени, Елагин поспешил в Пустозерск. Намеревался нагрянуть нежданно, чтоб не грело, не горело да вдруг припекло. Не получилось.
Из Москвы, через Усть-Цильму примчал в острожек подьячий Тайного приказа, привёз сосланного в дальние края сторожа Благовещенской кремлёвской церкви, друга Аввакума, старовера Андрюшку Самойлова. Но был у тайного слуги царя наитайнейший указ для Елагина: Башмаков-то не зря на государя «взглядывал»: спохватился человеколюбец, убоялся Бога, приказал казнить бывших батюшек, но не до смерти.
Воевода Иван Савинович Неелов ради лютой зимы сидельцев оставил в избах, теперь же, боясь Елагина, — про его дела в Мезени было ведомо — велел натопить печи в тюремных ямах, дабы перевести наконец страстотерпцев в устроенные для них «хоромы».
Подьячий отсоветовал, воевода упёрся. Подьячий отсоветовал в другой раз, строгим голосом.
Ивану Савиновичу оставалось только вздыхать, а тут нашлась на его голову жена распопа Лазаря Домника Михайловна, челобитную царю подала: ей «саму-четверту с робяты» в Пустозерске кормиться нечем, вот и явил бы великий государь милосердие Божеское, послал бы её, Домнику с детишками, в русские города, чтоб «было, где мочно, в миру прокормиться. Помираем, великий государь-царь, голодом, и холодом, и наготою». В нищенство просилась. Пустозерск мал, подаяние скудное.
Распоп Лазарь ещё летом бил челом, моля царское величество перевести жену в руеские города, ибо живёт в Пустозерске «без корму и без подворья».
Иван Савинович показал челобитную Домники Михайловны подьячему, тот головой покачал:
— Рассылать по городам староверов — раскол плодить.
Бедному семейству оставалось ждать лучших времён...
Только бывают ли они, лучшие?
10 апреля налетел вороном на Пустозерск стрелецкий полуголова Елагин. Встреча с подьячим Тайного приказа подрезала ему широкие крылья. Посмирнел Иван Кондратьевич.
На другой день по прибытии сел он в съезжей избе, велел привести всех четверых: Аввакума, Лазаря, Фёдора, Епифания.
Перед бодрым, огнеглазым царским слугою стояли светлоликие от недавнего Великого поста, спокойные, готовые на любое терпение старцы. Аввакуму шёл пятидесятый год, в бороде изморозь, а плечи крутые, кряж. Епифаний, как синичка, туда головку поворотит, сюда — улыбается. Улыбка нездешняя, душе, что ли, своей — птахе сокровенной. Фёдор и глазами умён, и лбом, и бородой. У него и нос тоже в истину упирается. Лазарь прост, неказист — лапоть, но умишко не за морем покупал. Крепкий орешек.
Поглядел Иван Кондратьевич на матерых раскольников, против царя, против трёх патриархов устоявших, — не посмел ни кричать, ни поднимать на смех. Сказал попросту:
— Мне вас не переспорить, коли владыки да святейшие не переспорили. Дайте мне за своими руками «скаску»: подчиняетесь ли постановлениям священного собора? Но знайте: упрямых отступников ожидает лютая казнь.
Старцам поднесли столбец бумаги, освободили стол.
Перо взял Епифаний. Сидели мудрецы долго, написали мало. Помянув недобрым словом Никона, о вере своей объявили твёрдо: «Мы святых отец церковное предание держим неизменно, а палестинского патриарха Паисия с товарищи еретическое соборище — проклинаем».
Подписались.
Прочитал Елагин грамотку, ничего не сказал. Оставил одного Лазаря, остальным велел в тюрьмы идти.
Лазаря взваром попотчевал. Спрашивал сердобольно:
— Неужто не жаль тебе детишек своих? Нищенствуют, а кто им подаст в сей малолюдной, снегами заваленной земле? Апрель — а шапки с ушей не сними, отпадут.
Лазарь заплакал. Елагин взбодрился, горячее стал говорить:
— Погляди на себя. Тебе жить да жить. Жена бы ещё полдюжины поповичей-то нарожала. Лазарь ты, Лазарь! Неужто так противна тебе тёплая да ласковая супружеская постель?
Зарыдал распоп. Размок хуже бабы.
— Порви сию дурную грамоту! — Елагин подсунул «скаску».
Полились слёзы из глаз горемыки ещё пуще, осенил Елагина крестным знамением, святоотеческим, неотступным.
— По тебе плачу, — молвил.
Покраснел Елагин как рак, кипятком ошпаренный.
Три дня, однако, уговаривал безумцев. Две тайны просил принять: креститься тремя перстами да пропускать в Символе Веры слово «истинного» перед Духом Святым. Аввакума осаждал с пристрастием. Рассказал, как духовных детей его поперевешал.
— Одумайся! — говорил, перстами хрустя. — Жена твоя да оба твоих старших сына — опора семейства — в ямы закопаны... Чем жить бабы будут с малыми ребятами, от голода ведь перемрут.
— Бог дал, Бог и возьмёт, — ответил Аввакум. — Об ином горюю, Иван Кондратьевич. Оплошали Иван с Прокопием, не догадались ухватить победных венцов, кои ты им предлагал услужливо. Что поделаешь? Страшна смерть живому. Была им, глупеньким, прямая дорога к Господу, теперь-то потрудиться надо...
14 апреля, в день святителя Мартина Исповедника, папы римского, воителя Господнего с ересью монофелитов, измышлявших, что в Исусе Христе Бога больше, нежели человека, — горожан Пустозерска согнали к съезжей избе.
Утро было румяное. В воздухе чувствовалась влага. Нежный иней садился на брови, на усы, на бороды, выбеливал, удлиняя, ресницы — да не глядели бы глаза, на что глядеть приказывают.
Стрельцы с бердышами привели к плахе Аввакума, Лазаря, Фёдора, Епифания.
Московский подьячий прочитал царский указ. Слова в указе обычные: государь изволил, пожаловал, бояре приговорили: Аввакуму «вместо смертные казни — учинить сруб в землю и, сделав окошко, давать хлеб и воду», товарищам его, еретикам — «резать без милости языки и сечь руки».
Аввакум харкнул себе под ноги, закричал, тыча рукой в Елагина, в палачей, в воеводу:
— Плюю на ево корму! Не едши умру, а благоверия не предам!
Стрельцы обступили Аввакума, отвели от помоста с плахою...
На высокое, всем видное место первым возвели Лазаря.
— Батюшка! — крикнул кто-то из детишек его.
— Терпите, ребятки! — взмахнул рукою Лазарь. — Я потерплю.
Осенил крестным знамением место, откуда крикнули.
Палач поманил старца. Стрельцы навалились, пригнули к плахе. Палач прошёлся по помосту, скидывая рукавицу, достал нож из-под шубы, приноровился, клещами ухватил страдальца за язык, потянул, отхватил по самый корень. Брызнула кровь, Лазаря забила кровавая икота. Пронзительно визжали женщины, но смолкли. Палач взял топор, опять прошёлся вдоль помоста и к жертве. Закатал на правой руке Лазаря шубу. Руку положил на плаху, приноровился, тяпнул. Успел-таки старец, верный знамению отцов, сложить персты истинно. Отлетела рука, лихо сеченная по запястье, аж на землю, на белый снег. Ахнул Лазарь, разверзши кровавую гортань. Шатаясь, сошёл с помоста. К помосту прислонясь, ожидал казни товарищей.


























