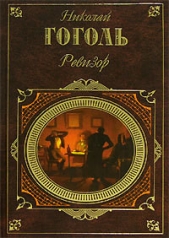Совесть. Гоголь
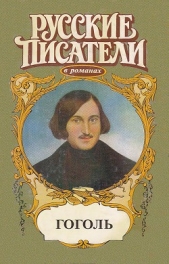
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Помилуй, что это делаешь ты?!
Он взмахнул, как на сцене, ещё влажным, не совсем опрятным сосудом:
— На счастливого, как здесь говорят. В Риме этак опорожняются все.
Погодин растопырил в недоумении руки:
— На счастливого? Великолепное счастье! А когда бы на голову мне? Да здесь, я гляжу, надобно ходить посерёдке! Экие дикари!
Он накрыл крышкой и задвинул сосуд под диван:
— Это, брат, тебе не Россия.
И они крепко, горячо обнялись. Погодин в медвежьих объятиях мял его щуплое тело, дружески колотил по костлявой спине, губастым ртом сильно впивался то в одну щёку, то в другую, выговаривая, точно в университете читал:
— Ну уж и нет, люди везде должны быть людьми, цивилизация, чёрт побери.
Он прижимался к нежданному другу, подставлял то одну щёку, то другую и повторял:
— Э, полно, какое, обычай да свычай у всякого свой.
А после жарких объятий, вызвав старого Челли, строго сказал:
— Это мой друг из России. Я ему назначаю помещение рядом с моим, через вашу тёмную залу. Нам и такое соседство будет удобно.
Челли кланялся низко:
— Да, синьор, будет исполнено, как вам угодно, соседство прекрасная вещь, для вас я согласен на всё.
Потом они пили чай из огромного медного чайника. Он заваривал собственным способом, уставлял накрытый пёстрой скатертью стол кренделями, сладкими булочками, сухариками и потчевал беспрестанно:
— Ещё по чашечке... ещё одну... а вот эти дьяволёнки... отведай, вкусные-то какие... просто икра!
Он вытянулся, открыл глаза и проворчал, глотая слюну:
— Экие дьяволёнки...
Есть хотелось невыносимо, уже и судорогой сводило живот, и он распустил две пуговицы жилета, выпуская голодный живот на свободу. Голодный живот вышел на свободу с удовольствием, но был совершенно пустым и совсем провалился, точно переставал уже быть животом. Николай Васильевич погладил это место рукой, запустив её под рубашку. Кожа оказалась прохладной, сухой и немного чесалась. Боль острого голода словно проходила от тихих прикосновений любовно ласкавшей руки. Он повернулся на бок и снова затих. Боль острого голода как будто пропала, куда-то ушла. Он повеселел, скорчил какую-то рожу и мечтательно протянул:
— А хорошо иногда быть и толстым...
Однако нынче он был худ, как скелет. Несмотря на такое прискорбное обстоятельство, его не оставляли детские шалости. Он чуть не показал себе язык, но тут сел на диван, подвернув под себя правую ногу. Ни у кого себе воли не призаймёшь. Решение принято, скоро уж ночь, пора, похерив нелепые колебания, собираться в дорогу, ибо всякое своё дело надобно непременно доводить до конца. И может быть, нынче Господь его к себе не возьмёт.
Широко открыв глаза, он напряжённо глядел в темноту. Мысль показалась простой и счастливой. В самом деле, почему обязательно готовиться к смерти... всё-таки «Мёртвые души»... назначены свыше ему... ещё бы всё надо проверить... в последний уж раз... была ещё одна встреча... в конце января... да, дней пятнадцать назад, на масленой, явился Матвей.
Ещё не раздевшись, в тёплой шубе на красных искристых лисицах, в чёрных высоких разношенных валяных сапогах, подшитых понизу кожей, прямо с дороги Матвей пришёл к нему в кабинет, приветливо улыбаясь сухими губами.
Он, помнится, был занят корректурами, однако тотчас бросил перо, встал под благословение с осторожной поспешностью, крепко запомнив первую встречу, и поцеловал с тихой радостью здоровую мужицкую руку Матвея. Рука была ещё влажноватой от рукавицы и немного припахла овчиной. Подставляя её привычным движением, Матвей добрым, настуженным голосом прогудел в макушку ему:
— Благослови Господь. Долгом моим почитаю молиться за тебя и радуюсь истинно лицезреть тебя в полном здравии, мой брат во Христе.
Он был растроган до слёз:
— Благодарю вас, отец мой, благодарю!
Распахивая добротную шубу, держа мохнатые рукавицы под мышкой, Матвей дружелюбно напомнил:
— Это мой долг перед Господом.
Он поднял на Матвея глаза, ощутив, как смущением и восторгом засветилось лицо:
— Мне нужнее всякого святая молитва. Если не вразумит Господь своим разумом, что я буду тогда? Участь моя будет страшнее участи многих, потому что слишком многое осмелился взять на себя. Молитесь, и если спасусь, то моим спасением буду обязан вашим молитвам.
Матвей положил размашистый крест:
— Ешь поменее да пореже, не лакомься, чай оставь, кушай с хлебцем водичку, меньше спи, говори тоже меньше, молись да не гордись, на кладбище к жёнам смердящим ходи и вопрошай у ничтожного праха, что теперь пользы им от былых удовольствий телесных, которым в грехе своём предавались по неразумию, и Господь да простит твои прегрешенья.
Он поймал руку Матвея в другой раз:
— Да, отец мой, истину слышу в глаголах сиих.
Улыбнувшись ему поощрительно, легко ступая в ладных, разношенных сапогах, Матвей удалился в покой, заранее приготовленный богомольным хозяином, он же проводил Матвея кротким, любовно расслабленным взглядом, тотчас встал перед образом и заплакал, с трепетом вышёптывал слова благодарности в том, что наконец отыскался хотя один человек на земле, который по доброй воле своей взял на себя попечение о его совсем слабой, как он вечно видел, душе, не навязывая ей ничего из того, что ей было бы чуждо, что обрывало бы стремленья её; отмолясь и отплачась, раздумался беспокойно о том, что он и Матвея вставил в поэму, как вставлял всех, кто ни подходил к нему близко, — так вот приятно ли станет такое событие человеку, который молится за него? Одного себя не желал он выставлять напоказ в самом непривлекательном свете — за другого совесть не дозволяла решать, и к полудню, отобрав две тетради, он снёс их Матвею наверх, чтобы тот решил сам, пристало ли ему появиться на люди в такого рода обличье, как литературный герой.
Матвей пришёл под вечер. Было тихо, сумрачно, грустно. Он сидел в уголке, свесив голову на плечо, раскинув руки на кресле, утомлённо прикрыв глаза. Другая тетрадь покоилась на коленях раскрытой. Терпеливо просматривал он седьмую главу ещё раз, однако думал не о ней. Он отгадывал близкий отзыв Матвея, которого знал уже несколько лет. За это время характер Матвея был им изучен довольно, так что угадывались многие мысли Матвея, и даже явилась возможность предвидеть поступки, и всё-таки что-то неясное затаилось в отношениях с ним. Матвей упорно молчал о его повестях и о первом, давно вышедшем томе поэмы. Подобное молчание представлялось ему осужденьем, которое само по себе не удивляло и не оскорбляло его, потому что в литературных делах Матвей был ему не судья, но всё же Матвей был искушённый читатель и книжник, а ему драгоценен был отзыв любого читателя, отзыв же Матвея не давался никак. Недовольный собой, пеняя на скрытность Матвея, он вновь принимался за рукопись. Седьмая глава представлялась совершенно готовой. Он взялся без промедления за другую, и тотчас один абзац забеспокоил его, и этот абзац он проговаривал медленно, пытаясь открыть тот изъян, который чудился в какой-то странной неровности звуков, однако не постигался умом.
Такая работа не доставляла ему удовольствия, а без удовольствия что за работа. Всего два состояния были известны и привычны ему: он либо работал, либо его крушила тоска. Работа без удовольствия была что-то такое, что беспокоило, изумляло его. С раздражением то и дело откладывал он тетрадь. Ему всё казалось, что отзыв Матвея должен быть отрицательным: в литературных мнениях они не сходились. Правда, в этот раз Матвей читал о близком, известном и потому, должно быть, отлично понятном ему.
Священник в поэме был, разумеется, не Матвей, он себе плоских копий не дозволял, дожидаясь той счастливой минуты, когда воображение по-своему перерабатывало, пересоздавало реальность, всё сущее возводя в перл создания, но всё же тот вымышленный священник несколько походил на Матвея, как и другие герои несколько походили на его литературных и нелитературных друзей.